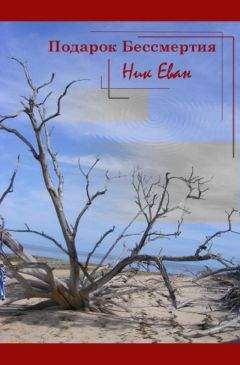Илья Франк - Прыжок через быка
«Уже давно, несмотря на весь свой ум, светившийся у него в глазах, кум Туранжо перестал понимать отца Клода. Наконец он перебил его:
– С нами крестная сила! Что же это за книга?
– А вот одна из них, – ответил архидьякон.
Распахнув окно своей кельи, он указал на громаду собора Богоматери. Выступавший на звездном небе черный силуэт его башен, каменных боков, всего чудовищного корпуса казался исполинским двуглавым сфинксом, который уселся посреди города».
Именно поэтому Гюго так подробно описывает собор, рассказывает его историю. Так же как Мелвилл описывает кита и рассказывает историю и технологию китобойного промысла. Ну а за то, что книга предстает двуглавым зверем, автору от нас особое спасибо.
В какой-то момент Джельсомина оборачивается Снежной королевой – а именно после совершенного Дзампано убийства. После того как Дзампано убивает Матто, они с Джельсоминой заезжают в какой-то безлюдный, тихий, заснеженный горный край. Такой, какой мы уже встречали у Данте:
Как леденеет снег в живой дубраве,
Когда, славонским ветром остужен,
Хребет Италии сжат в мерзлом сплаве…
Джельсомина все только скулит как щенок и твердит: «Matto sta male» (то есть: «Матто болен», или: «Матто нехорошо»). (Только ли о Матто говорит эта фраза? Или о Дзампано, его двойнике, тоже?) Дзампано же твердит: «Я не хотел его убивать! Я просто хотел спокойно работать!» (А Матто мне мешал: смеялся надо мной.) «Я больше так не могу! Мне надо зарабатывать на жизнь! А ты больная на голову! <…> Холодно! Давай вставай, поехали». Но Джельсомина засыпает, пригревшись на солнце. Увидев это, Дзампано сбегает, положив рядом с ней спички и трубу, на которой она играла.
Когда он уезжает, оглядываясь (и в его взгляде чувствуется пробуждающийся человек, несмотря на нехороший поступок, который он в данный момент совершает), видна русалка, изображенная на фургоне.
А вот что происходит в конце «Снежной королевы» Андерсена:
«Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела Снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете.
Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого – поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было все равно что кусок льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра – складывание фигур из деревянных дощечек, – которая называется китайской головоломкой. Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, только из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первостепенной важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала.
Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, – слово “вечность”. Снежная королева сказала ему: “Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков”. Но он никак не мог его сложить.
<…>
Она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз.
В это-то время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:
– Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!
Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался:
– Герда! Милая Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? – И он оглянулся вокруг. – Как здесь холодно, пустынно!
И он крепко прижался к Герде. А она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.
Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы; поцеловала его в глаза, и они заблестели; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.
Снежная королева могла вернуться когда угодно – его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.
Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А когда дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень».
Вы приметили, конечно, и треснувшее озеро, похожее на расколотое зеркало, и куст с красными ягодами, и оленя. И как все ледяное «лего» само складывается в слово «вечность», складывается в книгу жизни, стоит только появиться Герде – Снежной королеве со знаком плюс. И как это похоже на сказку о Гиацинте, отправившемся, покинув Розу-цветик, искать Изиду, а нашедшего в конце концов на месте Изиды Розу-цветик. Или на «Сказку о царе Салтане»:
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всем
Передумал он путем;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта – я».
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась…
«Близка судьба твоя» – вот что нужно понять Дзампано, а он не понимает.
Пока Дзампано еще оставался в полиции (после нападения с ножом на клоуна), Матто разговаривает с Джельсоминой. И на ее слова, что она ни к чему не пригодна и никому не нужна, Матто говорит, что, видимо, раз Дзампано ее, такую, не гонит от себя, значит, может быть, любит. Значит, она ему нужна. И что всё в мире для чего-либо нужно. Поднимает камешек и говорит: «Даже вот этот камешек». – «А он на что?» – «Да откуда мне знать!»[129] Вот это как раз и есть видение мира как книги. (Шаман во время шаманского обряда отправляется по Мировому Древу в горний мир, чтобы поправить там какой-либо сместившийся камешек – «удаляя несродное этому царству восторгов».)
Мы уже читали слова Фауста о мире, увиденном по-иному:
Мой страшный поиск дивный плод мне дал:
Весь мир мне был ничтожен, непонятен;
Теперь, когда твоим жрецом я стал,
Впервые он мне дорог, благодатен…
Мир, видимый как книга, интересен – каждой свой деталью, каждой мелочью. Таков мир Мелвилла (с его подробными описаниями вещей и событий), таков мир Пушкина:
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно…
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Если вас не привлекут такие картины, то жизнь ваша тосклива. Вы не прошли обряд. Мир не стал еще для вас «дорог, благодатен».
Мы много говорили о поедании мифическим зверем, о крови, об отрезанных головах и т. п. Может быть, у вас даже возникло впечатление, что автор не в себе и что лучше не попадаться ему в темном переулке. На самом же деле результатом удавшегося обряда является удивительно светлое, веселое восприятие жизни (вот, и этой фразой меня потом близкие задразнят). Посмотрите, до чего здорово (также из романа «Евгений Онегин»):
Отъезда день давно просрочен,
Проходит и последний срок,
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,
В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый,
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползет за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?..» И слез ручей
У Тани льется из очей.
Гиацинт искал Изиду, а находит (обретает вновь) Розу-цветик. Как сказано у Новалиса, «всякий путь ведет домой». Эти пушкинские стихи могут служить камертоном правильного отношения к жизни. И что-то пастернаковское в них есть, чем-то напоминают они стихи из романа «Доктор Живаго».