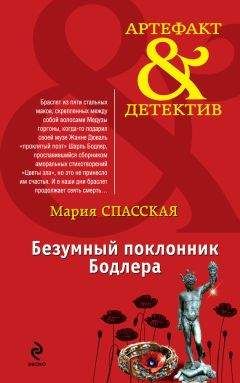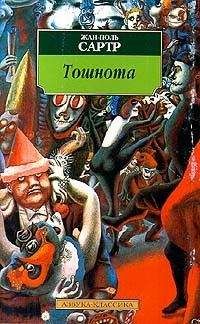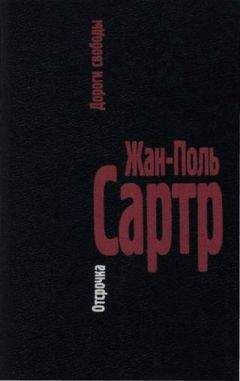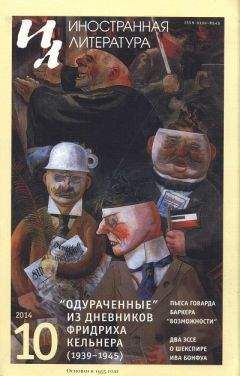Жан-Поль Сартр - Бодлер
(Пер. Эллиса.)
— не мог не ощутить пристрастия Бодлера к тем странным объектам, которые, словно рудная жила, выводят бытие на поверхность и «духовность» которых заключается в их отсутствии. Аромат существует как «сожаленье»; мы вдыхаем сожаленье вместе с ароматом, оно ускользает от нас тем же движением, каким и отдается, проникает в ноздри и тут же исчезает, улетучивается, хотя и не до конца: но все еще здесь, стойкое, как аромат, и оно нас волнует. Вот почему (а вовсе не потому, что у Бодлера было-де чрезвычайно развитое обоняние, как пытались доказать некоторые остряки) Бодлер так любил запахи. Запах тела — это и есть само тело; мы вдыхаем этот запах носом и ртом и, разом овладевая им, тем самым овладеваем самой потаенной субстанцией тела, одним словом, его природой. Запах, проникший в меня, знаменует слияние моего тела с телом Другого. Это, впрочем, бесплатное, воздушное тело, которое, разумеется, целиком и полностью остается самим собой, но вместе с тем проникается духом летучести. Бодлер как раз и отдает особое предпочтение такому одухотворенному обладанию: временами создается впечатление, что с женщинами он занимается не столько любовью, сколько их «вдыханием». Кроме того, запахи обладают для него еще и особой властью: умея безраздельно отдаваться, они в то же время умеют вызвать представление о недоступном далеке. Они телесны и вместе с тем отвергают телесность, в них таится некая неудовлетворенность, сливающаяся с неизбывной потребностью Бодлера быть не здесь:
Я парю, ароматом твоим опьяненный,
Как другие сердца музыкальной волной!
(Пер. Эллиса.)
По той же причине он больше всего любит сумеречное время дня, подернутое дымкой голландское небо, «белесые дни, теплые и туманные», «юные болезненные тела»; ему милы все существа, вещи и люди, которые выглядят ущемленными и ущербными, тянутся к своему концу, будь то «маленькие старушки» или свет лампы, чье неверное бытие меркнет в рассветном полумраке. Апатичные и молчаливые красавицы, населяющие его произведения, тоже напоминают какую-то оговорку. К тому же все эти женщины — подростки, не достигшие полноты развития: от стихов, в которых они описываются, остается впечатление, что речь идет о молодых и беспечных животных, скользящих по поверхности жизни, словно по поверхности земли, не оставляя на ней следов, — животных отсутствующих, скучающих, остылых, смеющихся, целиком поглощенных пустыми ритуалами. Итак, вслед за Бодлером, мы станем называть духовным такое бытие, которое доступно органам чувств и вместе с тем более всего походит на сознание. Все усилия Бодлера были направлены на то, чтобы вернуть себе собственное сознание, завладеть им, словно вещью, которую держишь в руках; вот почему он прямо на лету ловит все, что хоть как-то напоминает ему объективированное сознание; запахи, рассеянный свет, далекие звуки музыки — для него все это данности, крошечные безмолвные сознания, образы его собственного неуловимого существования, которое он поглощает, проглатывает, словно облатки. Его преследует желание пощупать овеществленные мысли — свои собственные мысли, обретшие плоть:
Мне часто приходило в голову, что всякие зловредные и гадкие животные, возможно, суть не что иное, как дурные мысли самого человека — мысли ожившие, отелесенные и обретшие материальную жизнь.
Да ведь и сами его стихотворения — это «отелесенные» мысли, и не только потому, что они оплотнились в знаках, но и главным образом потому, что любое из них — благодаря своему замысловатому ритму и тому неустойчивому, исчезающему смыслу, который они придают словам, равно как и благодаря своему невыразимому изяществу, — есть, по сути, не что иное, как оговорочное, уклончивое существование, вполне подобное аромату.
Впрочем, аромат женщины более всего напоминает значение той или иной вещи. Всякий предмет, о котором можно сказать, что он обладает смыслом, как бы через плечо указывает на какой-либо другой предмет, на общее положение дел, на небо и ад. Значение, будучи воплощенным образом человеческой трансцедентности, есть не что иное, как застывший акт преодоления предметом самого себя. Оно существует непосредственно у нас перед глазами, и, однако, впрямую увидеть его нельзя: это след, прочерченный в небе, неподвижная траектория. Занимая промежуточное положение между наличествующей вещью, которая служит ему опорой, и отсутствующим объектом, на который оно указывает, значение, с одной стороны, сохраняет в себе нечто от вещи, а с другой — предвосхищает обозначаемый объект. Оно не вполне чисто, в нем словно бы дремлет воспоминание о формах и цветах, которые дали ему жизнь, ив то же время оно предстает как некое запредельное по отношению к бытию бытие, оно не выставляется напоказ, проявляет сдержанность, слегка колеблется; оно доступно лишь самым утонченным чувствам. Для Бодлера с его сплином, всегда взыскующего «нездешнего», оно оказывается воплощенным символом неудовлетворенности: вещь, обладающая значением, — это всегда неудовлетворенная вещь. Присущий ей смысл — это образ мысли как таковой, образ существования, увязнувшего в бытии. Нетрудно заметить, что слова «аромат», «мысль», «мечта» и «тайна» у Бодлера едва ли не синонимичны:
Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной
В слежавшейся пыли находим мы невзрачный
Флакон из-под духов; он тускл, и пуст, и сух,
Но память в нем жива, жив отлетевший дух.
Минувшие мечты, восторги и обиды,
Мечты увядшие — слепые хризалиды…
(«Цветы Зла»: Флакон).
(Пер. А. Эфрон.)
Дурманящий ларец с секретными ключами,
Где ароматы, вина и ликер…
(«Цветы Зла»: Прекрасный корабль).
(Пер. Е. Крепковой.)
Томительный, как сожаленье…
Как тайна, сладкий, аромат
(«Цветы Зла»: Неудача).
(Пер. Эллиса.)
Бодлер потому так любит тайны, что они — вечное напоминание о Нездешнем. Человек, у которого есть тайна, до конца не принадлежит уже ни собственному телу, ни настоящей минуте; он не здесь; общаясь с ним, все время чувствуешь, что он чем-то неудовлетворен, видишь отсутствующее выражение его лица. Тайна придает ему легкость, он уже не столь сильно принадлежит настоящему, его бытие становится менее тягостным; Хайдегтер сказал бы, что для своих близких, для друзей такой человек «не сводится к тому, что он есть». Между тем тайна — это объективное бытие, которое может быть явлено в знаках, подслушано даже в немой сцене. Хотя мы являемся ее свидетелями, в известном смысле она находится где-то вне нас, маячит далеко впереди. О ней можно лишь чуть-чуть догадаться, она дана как намек или припоминание, как выражение лица, как невольное движение и уклончивое слово. Вот почему это бытие, составляющее глубинную природу вещи, в то же время оказывается наиболее тонкой ее субстанцией. Оно едва бытийствует; поэтому любое значение — в той мере, в какой нам не терпится его обнаружить, — может быть воспринято как некая тайна. Вот почему Бодлер столь страстно станет выискивать всевозможные запахи — тайны всякой вещи. Вот почему он постарается даже у цветов выпытать их смысл и напишет, что значение фиолетового цвета —
затаенная, скрытная, сокровенная любовь, цвет канониссы
Если он и заимствует у Сведенборга довольно туманную идею соответствий, то причина не столько в его приверженности к метафизике, сколько в том, что в любом предмете он стремится обнаружить затаившееся чувство неудовлетворенности, влечение к чему-то иному, объективированную трансценденцию; ему хочется очутиться в некоем лесу,
… где дебри символов смущают человека,
Хоть взгляд их пристальный ему давно знаком.
(«Фейерверки»).
(Пер. В. Микушевича.)
В конечном счете эти попытки преодоления вещей Бодлер распространит на все мироздание. Значимым окажется мир как целостность, и в этой иерархической упорядоченности предметов, готовых на самоутрату ради того, чтобы указать на другие предметы, Бодлер обретет наконец собственный образ. Сугубо материальный мир удален от него настолько, насколько это возможно; однако в универсуме, наполненном значениями, Бодлер берет реванш. В «Приглашении к путешествию», входящем в «Стихотворения в прозе», он пишет:
В этой прекрасной ctnpane, полной покоя… не станешь ли ты там обрамлена своим собственным подобием и не сможешь ли, пользуясь выражением мистиков, созерцать себя в своем подобии?