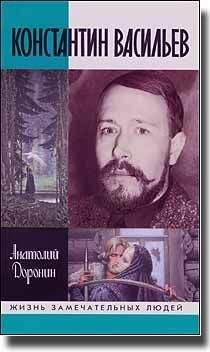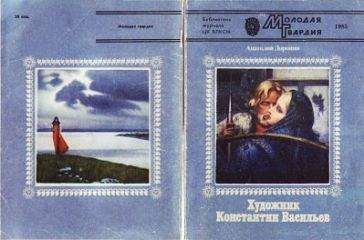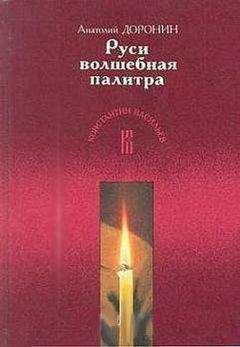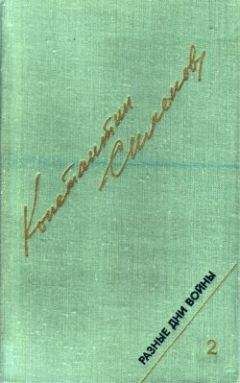Олег Буткевич - Красота
В предыдущей главе мы ограничивались рассмотрением явлений, которые несомненно доставляют эстетическую радость переживания красоты. Однако бывают случаи, когда те или иные формы производят лишь более или менее приятное впечатление, по не пробуждают ощущения красоты в полном объеме этого понятия. Различие здесь может показаться довольно трудно уловимым. Но для чувствующих красоту людей оно, безусловно, существует. Причем субъективно это различие предопределяется как раз наличием или отсутствием в момент восприятия элемента непосредственного открытия, что, в свою очередь, конечно, имеет вполне объективные основания вне сознании.
Так, например, нам могут доставлять удовольствие, близкое к эстетическому, ровная, гладкая поверхность, однородность и чистота цвета, механическая завершенность и определенность простейшей формы, плавность и равномерность движения и т. д. Все эти явления могут казаться приятными, «ласкающими» эстетическое восприятие, однако настоящего переживания красоты они вызвать не способны.
Определив, что ощущение красоты вызывается открывающимся непосредственно в явлениях диалектическим единством развивающейся действительности, мы не можем не вспомнить и об этих случаях получения чувства удовольствия от внешней правильности, непротиворечивости, внешней однородности чего-либо. Тем более, что в истории эстетики на явления такого рода не раз опиралась критика, подвергающая сомнению взгляд на красоту как на сложное единство и гармонию. Ведь последние требуют согласования разнородных, разнообразных, более или менее самостоятельных элементов, тогда как здесь приятное ощущение вызывается как раз отсутствием какого бы то ни было многообразия. К подобной аргументации прибегали, например, Плотин, Леон Еврей и некоторые другие авторы.
Представляется, что удовольствие, приближающееся к эстетической радости ощущения красоты, как бы намекающее на нее, но все же не являющееся ею, связано с тем, что здесь мы сталкиваемся с простейшими, элементарными формами внешнего, физического единства. Однако не с единством в его диалектическом, динамическом смысле, каким предстает перед нами эстетически познаваемая в красоте диалектически развивающаяся материя и как еще на заре времен его осознали древние, назвав «прекраснейшей гармонией», но с чисто внешним, очевидным единообразием. Единообразием, не несущим в себе объективного диалектического самоотрицающего начала и не имеющим поэтому перспективы развития. Подобные явления слитком очевидны, слишком поверхностны, слишком количественны. Для их констатации не требуется «работы» эстетического восприятия.
«[...] При оценке влияния его (приятного. — О. Б.) на душу все дело сводится к количеству [внешних] возбуждений (одновременных или следующих друг за другом) и, так сказать, лишь к массе ощущения приятного, следовательно, его можно объяснить только через посредство количества. Приятное не содействует культуре, а относится только к наслаждению. — Прекрасное, напротив, требует представления о том или ином качестве объекта, которое также может быть понятно и сведено к понятиям (хотя в эстетическом суждении оно не сводится к ним); и оно содействует культуре, так как учит в то же время обращать внимание на целесообразность в чувстве удовольствия»2. Это наблюдение Канта, относящееся и к тем случаям, о которых идет речь, становится очень глубоким, если принять во внимание, что конечный смысл различия между ощущением приятности и ощущением красоты окажется, как мы увидим ниже, связанным не только с познанием действительности, но с ее творческим преобразованием. Полное, завершенное в себе единообразие как окончательное, уже достигнутое, элементарное единство не требует дальнейшего практического выявления, не требует, если исходить из его собственных характеристик, вообще никакого творческого усилия.
Именно здесь находит объяснение, казалось бы, удивительная «непоследовательность» эстетического восприятия, постоянно влекущего нас к универсальной завершенности, цельности, организованности окружающего и в то же время как огня боящегося достигнутой полной организованности. Нас пленяют стройность и уравновешенность, но не просто механическая симметрия, нас увлекает мощная шарообразность формы, но не мяч, нас восхищает золотое сечение, но не членение на две или три равные части. Короче говоря, нас эстетически волнует организованность как преодоление дезорганнзованности, как зримое, динамическое торжество гармонии над хаосом, как неожиданное проявление закономерности, как бы скрытой, как бы еще окруженной нерассеянной тайной случая. Все это происходит потому, что суть эстетического ощущения — в непосредственном восприятии именно динамических связей гармонического развития, диалектического, живого, полного противоречий и взаимоотрицаний самодвижения объективной реальности. Оно как бы постоянно мобилизует нас духовно на творческое продолжение еще не завершенных, еще перспективных, еще требующих нашего вмешательства процессов.
Нужно отметить, что Гегель, считая высшей формой красоты, или идеалом, красоту искусства, то есть, как мы сказали бы теперь, красоту творчески решенного художественного образа, где художественно раскрываемая сущность обретает свое существенное явление, также рассматривал отмеченные выше простейшие формы единства как только «количественные определенности», как предмет абстрактной рассудочности. Он стремится в этой связи провести отчетливую грань между двумя родами природных явлений, воспринимаемых эстетически: теми, где единство представляет собой внутреннюю сущность (гармония и в известной степени закономерность) и может проявиться во вне лишь в чувственной форме образа (почему гармония в его системе оказывается даже как бы на грани между природой и «свободной субъективностью» идеала), и теми, где внешнее единообразие не нуждается в образном раскрытии, становясь лишь предметом плоской рассудочности.
С другой стороны, мы видим, что даже только намек на открытие живого, диалектического единства, хотя он и не волнует радостью познания и творчества, оставаясь фиксацией для всех очевидного, все же способен доставить некоторое удовольствие как напоминание о настоящей эстетической радости, как обещание возможности открытий и свершений. Подлинное же переживание красоты мы получаем, когда эстетическое восприятие, словно прорвав рамки обыденных явлений, непосредственно ощущает в них раскрывшиеся во внешних случайных формах глубинные, закономерные связи бытия — всеобщее, диалектическое единство развивающейся материи, равно и всякий раз как бы неожиданно воспринимаемое нами то в могучей стихии ритмов бушующего океана, то в трепетной гармонии черт человеческого лица, то в, казалось бы, элементарном сочетании синевы неба с золотыми стволами освещенных солнцем деревьев. Тогда падает извечная преграда между «я» и «не я», и пораженный человек просветленным взглядом видит недоступное никому, кроме человека, зрелище красоты...
Итак, логическое и эстетическое проникновение в действительность как бы с разных сторон под разными углами зрения, подобно перекрещивающимся лучам прожектора, высвечивают внутренние, закономерные взаимосвязи явлений и процессов. В одном случае в виде абстрактно-логического знания, в другом — в виде непосредственного ощущения. Но здесь, как уже отмечалось, сам собой возникает вопрос. Если истина и красота, пусть и своеобразно, но раскрывают в конечном счете одну и ту же всеобщую сущность диалектического единства материального мира, то зачем все-таки нужно такое двойное отражение действительности? Почему познающая способность материи обрела в сознании человека два инструмента самопознания?
Над этим вопросом задумывались многие исследователи. По большей части высказывалось мнение об особом «человеческом», по сравнению с наукой, содержании эстетического отражения, которое якобы и определило необходимость развития последнего. Действительно, будучи преломленным непосредственностью общественного человека, будучи всецело выраженным в наших ощущениях, восприятиях и представлениях, так же как и опосредованно — нашими взглядами и идеями, эстетическое познание в целом, и прежде всего искусство, отражая объективный мир, отражает его исключительно с точки зрения человека в его человеческих деяниях, переживаниях и стремлениях3. И все-таки вряд ли можно согласиться с тем, будто возникновение и своеобразие этого особого отражения обусловливается только «человеческим» его предметом. (Мы здесь вновь сталкиваемся с вульгарной трансформацией гегелевского принципа духовного самопознания как якобы самопознания исключительно «человеческого».)