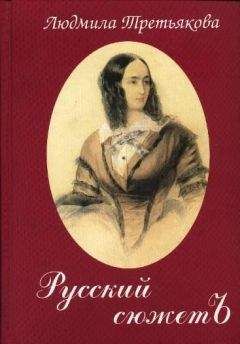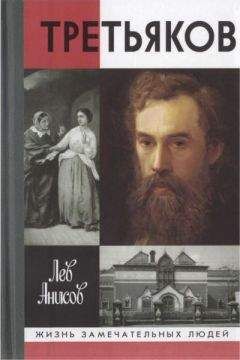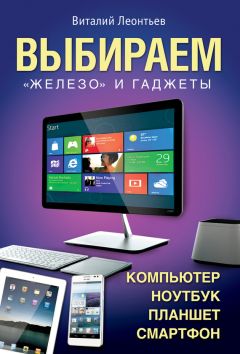Е. Ганелин - От упражнения - к спектаклю
Возвращаясь к разговору о поиске, в котором вечно находится актер, мы хотели бы сказать, что наша цель - облегчить этот процесс, дать не универсальный метод, а некоторые рекомендации, которые могут помочь актеру выработать навыки, необходимые в работе над ролью. Может быть, это будет тот фонарик, без которого и не отыскать ту самую черную кошку в темной комнате? Хотелось бы в это верить. Русский театр, театр “переживания” во все времена относил перевоплощение к величайшей актерской доблести. “Способность полного перевоплощения всегда была для меня признаком таланта, дара Божия в актере. Она в высшей степени свойственна русскому актеру. Но придет время, когда и западный актер поймет, как бедно живет он на подмостках сцены, всю жизнь, изображая самого себя. Скажут: а Чарли Чаплин? А Грок? Да, если вы обладаете их гением, если вы можете создать такой же фантастический образ, способный передавать все бесконечное разнообразие человеческих переживаний, какой создали Грок и Чаплин, - играйте всю свою жизнь одно и тоже, тогда хвала вам и честь, тогда никто не осудит вас” [3]
В годы нашего студенчества не очень-то принято было гримироваться, тщательно работать с костюмом, уделять много внимания внешней характерности. Занятия по гриму стояли в неписаной студенческой “табели о рангах” не на последнем месте, конечно, - последним делом считалась гражданская оборона, однако, они пользовались уважением немногим более. Главным достоинством выхода на сцену считалось умение сказать “правду” о той жизни, которой мы все жили, бросить вызов общественному лицемерию, власти, произнести те единственные слова, в которые веришь по-настоящему, в которых выражены идеалы глубокого гуманизма, завещанные мыслителями-шестидесятниками, а не бравурный казенный оптимизм с налетом идиотизма, вбиваемый в головы очередному поколению строителей коммунизма. Удавалось это сделать далеко не всегда, власти нечасто выпускали на широкую аудиторию драматургию и произведения литературы, несущие в себе не то, что оппозиционность по отношению к себе, но даже и намек на свободную мысль. Если что-то прорывалось к зрителю, то спектакли выходили буквально истерзанные цензурными купюрами, ножницами партбюро и прочих общественных радетелей за наши души. Вспомнить хотя бы знаменитый спектакль Семена Спивака по пьесе Л. Разумовской “Дорогая Елена Сергеевна” в Театре им. Ленинского Комсомола в Ленинграде, вышедший уже на закате эпохи незабвенного Леонида Ильича Брежнева. Около года понадобилось режиссеру Спиваку, чтобы “охмурить” хотя бы комсомольское начальство города, почти подпольно показать прогон спектакля на какой-то очередной загородной конференции творческой молодежи, тем самым как бы “легализовать” его. Количество сдач спектакля разным худсоветам сейчас уже и не упомнить. Придирки и “исправления” сейчас кажутся даже забавными: не стоит советской учительнице слушать пластинки с песнями Б. Окуджавы, финал с самоубийством Елены Сергеевны не “тянет” на нужный, жизнеутверждающий, присущий нашему обществу победившего социализма, не надо педалировать тему жестокости в среде современных подростков, поскольку “нетипично это” и прочее… Тогда, в самый расцвет “застоя”, такие “советы” чаще всего означали запрет спектакля и крупные неприятности для его создателей. Мы прекрасно помним, как не по дням, а по часам “старел” Спивак, что предпринимал покойный Геннадий Опорков, главный режиссер театра, его директор Леонид Надиров, чтобы спасти и этот, уже “кастрированный” вариант для сцены, хотя бы для Малой. Помним мы и оглушительный успех спектакля, ставшего символом вольного слова восьмидесятых годов на ленинградской сцене.
В таких условиях, естественно, главным становился вопрос “что сказать”, а не “как сказать”, имея в виду тему нашего разговора. Роль в те годы строилась более на публицистической заостренности мысли, нежели на тщательном исследовании и воссоздании характера. Это точно соответствовало запросам времени, зритель жадно внимал любому “честному” слову, произносимому со сцены, старался уловить тот особый подтекст “эзопова” языка на котором говорили актеры. А они и режиссеры умудрялись превратить самые “безобидные” слова пустяковых пьес в мощные обличительные речи, направленные против господствовавшей идеологии. Недаром в профессиональный жаргон прочно вошли понятия: “играть, держа фигу в кармане”, или “котлету за пазухой”. Это значило, что за текстом часто стоял абсолютно противоположный смысл, который угадывался в пластическом поведении исполнителя, его интонационной интерпретации роли. Удивительным искусством говорить одно, а подразумевать другое многие поколения советских актеров овладели виртуозно. Умение играть «вторым или третьим планом» присуще нашему театру в самой высокой степени. Конечно, последователям К. С. Станиславского есть, чем гордиться в этом смысле - подтекст, «подводное течение», по выражению самого основоположника, всегда были в центре внимания деятелей советского театра. Достаточно привести пример Московского Театра на Таганке, властителя дум поколения шестидесятников. Основанный Ю. Любимовым во многом на принципах Б. Брехта, театр освоил искусство подтекста таким образом, что и Телефонная Книга в постановке Юрия Петровича могла бы иметь ярко выраженное, поэтически-возвышенное «антисоветское» звучание. Мастер воспитал целую труппу, блистательно владеющую словом, живой парадоксальной мыслью: В. Высоцкий, В. Золотухин, А. Демидова, В. Смехов и другие актеры с легкостью и точно «взрывали» текст изнутри и вкладывали в наши головы то его содержание, о котором мы, зрители, и не подозревали. То же самое, с известными оговорками, можно отнести и к еще одному символу поколения - московскому «Современнику», на спектакли которого публика собиралась, как на тайную вечерю, полузапрещенную сходку, испытывая чувства причастности к почти что нелегальной деятельности…
Наиболее полно эта тенденция в актерском искусстве обнажилась в первые “перестроечные” годы. В драматургии середины 80-х годов все уже было тщательно подготовлено к тому, чтобы на сцене появились трибуны-публицисты, открыто проповедующие “новую правду” жизни, “бросающие горячие угли” в души зрителей. “Знаковым” произведением, в этом смысле, стала драматическая трилогия А. Володина, жанрово охарактеризованная самим автором, как “детектив каменного века”. Это пьесы: “Две стрелы”, “Ящерица”, “Выхухоль”. Все персонажи этих произведений из якобы первобытной жизни были носителями абсолютно современных зрителю конкретных общественных идей, и публику нисколько не сбивали с толку их костюмы из звериных шкур и допотопные луки и стрелы в их руках. Аллюзия господствовала, царила на сцене, завораживая нас идеалами доброты, общечеловеческих ценностей.
Собственно в “перестроечные” годы отпала необходимость даже в этой аллюзии, в привязке персонажей к какой-то бытовой или исторической правде на сцене.
Очевидно, что при таком положении вещей, идеи “строительства” характера, глубокой проработки линии поведения персонажа, углубленное занятие характерностью не слишком занимали актерские умы и души в те годы. Напротив, реакцией на мхатовский стиль 40-50 годов с его “настоящими” лесами на сцене и тоннами грима, бород и усов на лицах немолодых актеров, играющих мальчиков и девочек, стало неприятие “бытового” театра, поиск возможности поэтически выразить свою “незагримированную” душу в широких рамках нового “условного” искусства, неотягощенного грузом бытового правдоподобия. Не будем лукавить, мы не слышали призывов “сбросить Станиславского с корабля современности”, но признаем, что более него нас интересовали уроки М. Чехова и опыты Е. Гротовского, открывавшие, как казалось, совершенно новые горизонты профессии и привлекавшие творческую молодежь прежде всего их “не совсем разрешенностью” в тогдашней советской театральной педагогике. Любопытно вспомнить, как с выходом в свет в серии “Литературное наследие” двухтомника воспоминаний и писем М. Чехова, театральная богема устроила настоящую охоту за ним. Цены на черном рынке были в 5-6 раз выше номинальных. Ажиотаж был повальный. Пришла мода на упражнения по методу Чехова. Целые самодеятельные коллективы объявляли себя адептами этого метода и, не разобравшись в его сути, с порога отвергали традиционные ценности школы драматического мастерства. Все это происходило в годы, когда среди нас находилось еще много людей, не только видевших живого М. Чехова на сцене, но и работавших с ним и знающих все, что связано с его именем, не понаслышке. Но это не очень интересовало новообращенных, их более привлекала возможность выделиться, противопоставить себя официальной школе, прикрывшись именами Гротовского, Арто, Чехова, других деятелей театра, не слишком-то жалуемых властями. Нужно отметить, что еще один всплеск интереса к методу М. Чехова пришелся на начало и середину 90 годов и, на этот раз не был обусловлен соображениями конъюнктуры. В условиях политической свободы у людей Театра появилась возможность открыто “исповедовать” любые театральные “веры”. Оказалось, что на Западе школа М. Чехова не только не забыта, но и переживает период расцвета. Русские артисты, интересующиеся развитием национальной театральной школы, принимают активное участие в деле осмысления и развития метода М. Чехова. В работе Международной Школы М. Чехова принимают и принимали участие С. Юрский, О. Ефремов, другие “могикане” русского Театра. Мне, Е. Ганелину, посчастливилось побывать на Третьей Международной Школе М. Чехова, работа которой проходила в августе 1995 года под Лондоном.