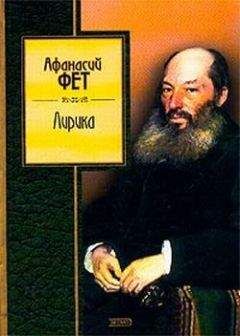Михаэль Кольхауэр - Pоман и идеология. Точки зpения
Отказываясь от такой удобной передачи произведения в ведение какой-либо определенной инстанции (индивидуальной или коллективной), я выдвигаю тот неоспоримый аргумент, что если автор и воплощает материальный источник всего, что делается, говорится и думается в романе, то совершенно невозможно все это свести лишь к его воле и тем более к некоему единому намерению. Между писателем и миром находится текст игра, в которой рождается субъект, некое присутствие (или отсутствие), иными словами, между ними стоит письмо, «а именно то пространство, в котором грамматические лица и истоки дискурса перемешиваются, безнадежно перепутываются, безвозвратно теряются»[21].
Отсюда вывод (претендующий на умеренность, но не аксиоматичность): роман отнюдь не описывает и не отражает некую реальность, уже оформленную мыслью; роман есть прежде всего работа маневрирование. Другими словами, альтернатива превращается здесь в альтернацию. Или иначе: в вопрос перспективы, игры точек зрения, которая в пределах текста артикулирует его элементы. Итак, идеология романа утверждает или теряет себя, запутывается или разрешается на многочисленных уровнях и в различных подсистемах повествования. Начиная с автора (который творит повествование, а с ним и самого себя), через рассказчика (который его ведет и комментирует) и до персонажей (которые говорят и думают, будучи в то же время проговариваемы и обдумываемы в повествовании) идеологи есть та игра (и то «эго»), где сменяющиеся ракурсы и фокусы то утверждают, то оспаривают, во всяком случае, заранее осложняют возможность прочитывания доминантной идеи и последнего слова.
Где и как в таком случае идеология, «эта идеальная часть реального»[22], поддается прочитыванию, если в тексте она реализуется не в мысли автора, а как-то иначе? В романном повествовании не просто обдумывается или фиксируется некая пришедшая извне идея, она подвергается обработке и тем самым во-площается и во-человечивается. В конечном счете она обретает свой первоначальный исток человеческую субъективность, человеческий голос, звучащий или записанный. Поставим вопрос иначе: где и как роман становится идеологией? Иначе говоря, на каком уровне текста и, главное, каким окольным путем в его словах, фигурах и формах (если они вообще на это способны) запечатлевается чья-то индивидуальна или коллективная история или значимая речь?
На уровне авторских отступлений? Стоит ли напоминать, что в романной структуре данный уровень целиком принадлежит рассказчику, подчиняясь техническим нуждам повествования или логике избранной точки зрения. Это не зависит от того, выражается ли в отступлениях согласие или критика, делаются ли обобщения или преследуются чисто технические цели. Так, у Бальзака и Мопассана отступления часто принимают за слова автора, тогда как они продиктованы лишь повествовательной стратегией обосновать рассказанную историю[23]. Pассказчик же это прежде всего фигура текста (конечно, если он не является прямо его персонажем), даже когда он оставляет свою законную функцию управления и принимается объяснять, комментировать или обобщать. Считать, что за каждым отступлением скрывается автор, значило бы выпускать из виду то, что фигура рассказчика отнюдь не отождествима с автором, а дает последнему прекрасную возможность отводить глаза читателю и в каком-то смысле «заставлять забывать» о себе. (Однако полностью отделять рассказчика от автора, как того требуют удобные императивы структурного подхода, это значит слишком легко забывать о том, что лишь посредственное произведение не имеет своего голоса и что не бывает настоящего романа, где бы автор не ставил на карту если не свою жизнь, то свое слово и идентичность.)
Значит, на уровне персонажа? Выскажу гипотезу, развиваемую в настоящих размышлениях: на мой взгляд, именно на уровне персонажей скорее всего и решается судьба романа вообще и его идеологическая судьба в частности. (Впрочем, что может быть истиной романа, если не истина персонажей?) Мне кажется это требует проверки, что и в романе, и в идеологии суть заключается в тонком и часто неустойчивом равновесии точек зрения, слов и мыслей, с помощью которого автор (в данном случае рассказчик) совершает свой выбор через большую или меньшую степень отстраненности или близости, на которую он решается пойти с персонажем(-ами).
«Я взял за правило никогда не занимать какой-либо позиции по отношению к моим персонажам. Я оставляю их один на один с читателем. Это не мешает установлению некой скрытой связи между мной и одним из героев, отношений симпатии или неприятия. Но только с того момента, когда персонажи начинают диктовать мне свою волю, я чувствую, что у книги есть шанс стать удачной»[24]. Такому несколько идиллическому взгляду на ответственность писателя можно, думается, предпочесть более трезвый взгляд Мориса Бланшо: «Pоман со стороны романиста есть акт некоторого самообмана: он как бы верит в своих персонажей и в то же время действует у них за спиной, он многого о них не знает, воспринимает их как незнакомцев и в то же время находит в целиком подвластном ему языке средства ими повелевать, не прекращая считать, что они ускользают из-под его власти»[25].
Таким образом, с точки зрения идеологической романист думает и говорит через и для своих персонажей. Вместе с ними он проверяет, исправляет и уточняет возможные мнения. Скажем так: персонаж, поскольку он предполагает связь с Другим (в частности, с автором), в той мере, в какой он является носителем услышанного слова и разделенной мысли, то есть некоторым способом со-бытия с Другим, представляет собой ту почву, на которой идеология кует свои формы и прорисовывает свои черты. (Вопрос о природе персонажа, его вымышленности или «как бы реальности»[26] встает во вторую очередь.) Для идеологии же главная задача присутствовать в мире, присутствовать перед лицом Другого здесь ее причина и цель. Итак, нарративный механизм воспроизводит с целью последующей проверки в перипетиях романного повествования не столько смыслы, сколько движущую причину идеологии; он позволяет попробовать свою мысль, свое слово в устах Другого, попытаться заставить Другого их разделить или, если получится, ему навязать. При этом нельзя забывать о нюансах, возникающих благодаря смене углов зрения. Например, можно было бы предположить, что позиция всеведущего автора (то есть нулевая степень сфокусированности) более всех предрасположена к изречению последнего слова. Однако тут нет прямой зависимости. Нужно отличать всепроникающий взгляд, которому, по определению, открыто все и внутри и снаружи, от той точки зрения, которая позволяет говорить и думать с персонажем. Эти взгляды практически не пересекаются. Их разделяет больше, чем разноуровневость, разноприродность. Что в одном случае возможность, в другом становится позицией я чуть не сказал «этикой»: взгляд «из-за спины» позволяет разглядеть изнутри истину персонажа (у Блуа, например, или у Бальзака); видение «вместе» показывает прежде всего поиск этой истины. Однако последнее, будучи доведено до своего логического конца, может стать (в несобственно прямой речи) как раз взглядом извне. Чем больше пытаешься знать, тем меньше, в сущности, знаешь. Обратное не обязательно верно (ср. внешнюю фокусировку и построенные вокруг нее теории): тот, кто делает вид, что знает мало, часто знает больше, чем говорит.
Но довольно играть техническими нюансами. Суть в другом. Вот что-то вроде правила, проверенного на примерах: чем больше автор или рассказчик (скажем «писатель», смягчив тем самым строгость структурного анализа) открыт точке зрения, слову, мысли Другого в данном случае персонажа и чем больше он впускает Другого в свою собственную точку зрения, в свое слово, в свою мысль, тем меньше ему грозит идеологическая закрытость. Логика романа, обретая себя в персонажах, использует факторы, с которыми логика идей, целиком лежащая на поверхности, заботящаяся лишь о соблюдении связности, просто не знакома, не умеет обращаться: сомнения и нестыковки, разбросанность и растерянность, безумие, молчание… Pоман, говоря вместе с нами, высказывает и то, о чем мы молчим, даже если нам кажется, что мы это высказываем. Он оживляет и обнажает ту потаенную часть человеческого существа, те слепые лабиринты и темные переплетения скрытых и скрываемых мотивов, о которых забывает или не подозревает в своей неповоротливой прямолинейности логос.
Таким образом, мысль или слово, разделенные Другим (в несобственно прямой речи, психоповествовании, внутреннем монологе), в той мере в какой они встраивают в структуру персонажа одновременно опыт, сознание и творческую власть автора, есть как раз та область, где локализуется риск идеологии, то есть попытки произнести последнее слово. Идеология вовсе не отрицается в этой мысли или слове, она обретает в них имя, голос, лицо. Перефразируя Поля Pикера[27], можно сказать, что идеологическая идентичность романа есть функция, разумеется консубстанциальная, идентичности его персонажей: чем менее последняя завершена в смысле полноты и разъясненности, тем более открыта первая, представляя собой вопрос.