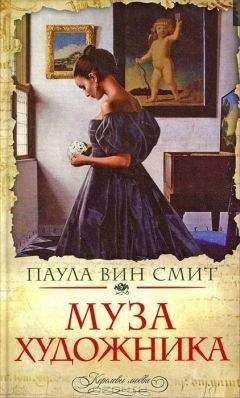Константин Антонов - Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект
Здесь важно отметить, что этот момент характерен отнюдь не только для периода раннего детства, когда окружающая «атмосфера» по преимуществу сводится к семейному кругу, но и к любому этапу жизненного пути человека. «Непосредственное самобытие», как постоянно, во взаимодействии со многими и различными «ты», актуализирующаяся потенция «я», через дифференцирование «моего» и «чужого», все более глубоко и основательно открывает себя себе, все более ясно и четко осознает свое место в единстве «мы»[5].
Однако никакая субъективность «другого» не выводит меня за пределы субъективности как таковой. Как говорит Франк, она «не осуществляет необходимой мне укорененности моей субъективности в некой объективности – в реальности, которая в силу своей актуальности имеет собственную имманентную значимость и может быть для меня незыблемо-прочной почвой» [191, с. 387].
Непосредственное самобытие обретает свою актуальность, становится личностью, путем «трансцендирования во внутрь», когда она «стоит перед лицом высших, духовных, объективнозначимых сил и вместе с тем проникнута ими и их представляет» [191, с. 409]. Это самоуглубление возможно только благодаря отношению к другому и вместе с другим, оно обнаруживает содержательный аспект этого отношения – собственно то, по поводу чего и ради чего это общение осуществляется, то, что придает ему смысл. С этой точки зрения жизненный путь человека предстает как поиск этого осмысляющего основания, обладающего собственной ценностью и в силу этого способного придать ценность и смысл человеческой жизни.
Согласно Франку, этот путь пролегает от переживания собственной «беспочвенности, неустойчивости, неподлинности своего бытия» [191, с. 393], через последовательную демистификацию ценностей, претендующих на статус «осмысляющего основания», но в действительности коренящихся в социальном или даже биологическом аспектах человеческого существования, к религиозному опыту обретения (или необретения) «Святыни», «Божества», «первоисточника правды и реальности», «последнего основания моей душевной и духовной жизни». Этим «жизненно-конкретным, ни с чем иным не сравнимым, единственным в своем роде» [191, с. 466–467], так сказать, именно-мне-адресованным, откровением предельной реальности в конечном счете определяется то место, которое занимает мыслитель в философском процессе, большая или меньшая оригинальность и специфичность его позиции, выявляемая на фоне иных позиций, ему современных и предшествовавших.
Это движение «непосредственного самобытия» мыслителя к самому себе, осуществляющееся через взаимодействие с многообразными «ты», может рассматриваться как основной двигатель его творческой биографии на первых ее этапах. Однако уже с самого начала возникающие и распадающиеся единства «мы», в которых он так или иначе принимает участие, отнюдь не исчерпывают его внутреннюю жизнь. Наряду с этим моментом «трансцендирования вовне» мы можем обнаружить также и соотносительный ему процесс самоуглубления, «трансцендирования вовнутрь», причем со временем он оказывается все более преобладающим, определяющим и направления внешней деятельности и общения мыслителя.
В какой-то момент это внутреннее созревание приносит свои плоды: мыслитель достигает предельной степени ясности как относительно собственной основной интуиции, так и относительно неадекватности всех предоставляемых в его распоряжение иными позициями выразительных средств. Этот момент, сопровождаемый, как правило, сложными жизненными и творческими коллизиями, переворотами, порой мистическими переживаниями, – позволяет мыслителю, так сказать «уйти в отрыв», «опередить свое время», перейти от попыток уточнения и гармонизации существующих позиций к формированию собственной парадигмы. Это значит, что для понимания логики этого отрыва необходимо проследить смысловые связи, которые характерны для тех систем идей и антропологических позиций, в рамках которых первоначально работает сам философ и его ближайшее и более отдаленное окружение. Это, в свою очередь, скажем вновь, делает необходимым внимательное изучение литературного и общественного контекста его деятельности, окружающей его «атмосферы» именно в терминах «своего» и «чужого», точнее выявления «своего» через «чуждое».
Особенностью личности и отчасти жизненных обстоятельств Киреевского является то, что это самоуяснение сопровождалось у него своеобразным процессом «овнутренения», при котором чисто внутренние, духовные аспекты жизни со временем получали все больший перевес над аспектами внешними, связанными с их социально-значимым выражением. С этим связано и его обращение: его следствием было радикальное изменение положения философии в системе его жизненных деятельностей и представлений. Она должна была уступить свое место ведущей деятельности и отойти на второй план – в то время как на первый все больше выдвигалась собственно религиозная практика, «умное делание». Именно философия, однако, должна была оставаться основной формой экспликации результатов этого опыта в секуляризованной культуре, которую Киреевский рассматривал как культуру по преимуществу рациональную.
При описании данного процесса мы будем исходить из презумпции, что литература, литературная критика, общественная и философская мысль в России I половины XIX века (а так же ряд других видов интеллектуальной и художественной деятельности, например театр) представляли собой расчленимое только post factum и в абстракции единство. Это единство структурировалось не столько видами деятельности, которые не были еще дифференцированы вполне и часто смешивались, сколько «направлениями» – творческими и общественными позициями авторов.
Говоря более исторически-конкретно, в данной работе предполагается рассмотреть духовную и творческую эволюцию Киреевского от свойственного русской литературе 1-й половины XIX века романтизма к иной антропологической позиции, генетически связанной с богословско-философской и аскетической традицией патристики. Постепенно проблема человека как субъекта творческой деятельности, истории и культуры, как участника Богочеловеческого отношения все больше оказывается в центре внимания Киреевского. В этом отношении он оказывается преемником как европейской, так и русской философской традиции. Верное прочтение его мысли оказывается важным для понимания логики становления этих традиций. Появление в XX веке на Западе философской антропологии и постоянный интерес к проблеме человека в русской мысли подтверждают это. Поэтому именно здесь, во Введении, имеет смысл кратко рассмотреть историю антропологической проблематики у предшественников Киреевского на Западе и в России.
Определенные представления о сущности человека и смысле его существования, о его месте в мире постоянно присутствовали в мысли европейских философов Нового времени. Тем не менее, понимание проблематичности человеческого, критическая рефлексия, специально направленная на эту область бытия, возникали лишь спорадически. «Чувство острого одиночества», которое М. Бубер не без основания считал необходимым условием успешного опыта самопознания, нарастало постепенно, по мере разрастания секуляризационных процессов и разрушения того стройного образа мира, где человек мог ощущать себя «как дома». Стремление преодолеть это чувство так или иначе двигало мыслителями этой эпохи.
Обратим внимание на тех из них, с которыми Киреевский так или иначе соотносил свою собственную позицию. Здесь надо сразу оговориться, что в своих представлениях о них Киреевский был существенно обусловлен историко-философскими представлениями своего времени, прежде всего такими «философскими» изложениями истории философии как лекции Гегеля (которые он слушал в Берлине) и Шеллинга («Мюнхенские лекции», «Система мировых эпох», «Философия откровения», о которых он также знал не понаслышке). Формируя в окончательном виде собственную позицию, Киреевский соотносил ее, прежде всего, с позицией Шеллинга, и на европейскую философскую мысль смотрел во многом именно его глазами.
Следуя Гегелю и Шеллингу, Киреевский, называет родоначальником новейшей философии Декарта [3, с. 269; 49, с. 321; 201(2), с. 389]. Последний, прежде всего, занимался проблемой соотношения мыслящей и протяженной субстанции, разума и страстей, а также доказательства бытия Божия. Утратив сознание непосредственной достоверности предметного мира, Декарт обретает эту достоверность в своем самосознании. Странно, однако, что Киреевский, вопреки рекомендации обоих своих авторитетов, безоговорочно рассматривает cogito ergo sum как силлогизм. Впрочем, возможно, что здесь сказалась общая тенденция шеллингианской критики рационализма «негативной философии», начало которой, по Шеллингу, кладет именно Декарт.
Напротив, положение человека «в бесконечности», его личная связь с Богом Авраама, Исаака и Иакова, находились в центре внимания Паскаля [31, с. 169]. Киреевского иногда с ним сравнивают [17, с. 137], а изданию его «Мыслей» он посвятил специальную сочувственную рецензию. Антирационализм Паскаля, его отталкивание как от той картины мира, которую создавала на его глазах новоевропейская наука, так и от католической ортодоксии в ее иезуитском варианте, его личная склонность к уединенной околомонашеской жизни, не могли не вызвать симпатий близкого по устремлениям русского мыслителя.