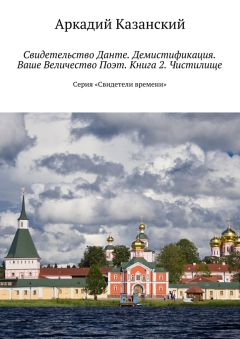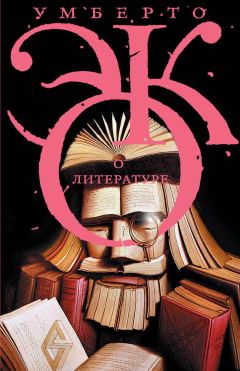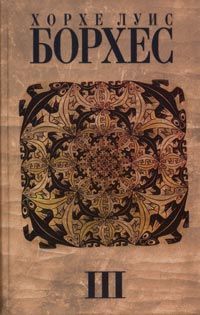Хорхе Борхес - Девять эссе о Данте
Это первичные образы сна Данте, едва отделимые от самого сновидца. Они бесконечно говорят о литературе (а что еще им делать?). Они читали «Илиаду» или «Фарсалию», или пишут «Комедию», они достигли вершин в своем искусстве, и, однако, они находятся в аду, потому что Беатриче забыла их11.
Ложная проблема Уголино
Я не читал (никто не читал) всех комментариев к Данте, но подозреваю, что знаменитый стих 75 предпоследней песни «Ада» создал проблему, породившую противоречие между искусством и жизнью. В этом стихе Уголино из Пизы, рассказывая о смерти своих детей в Башне Голода, говорит, что голод был сильнее горя (Poscia, piu che'l dolor, potea dijuinb). Мой упрек не относится к старым комментаторам, для них стих не составлял проблемы, все считали, что Уголино убит не горем, а голодом. Так понимал и Джефри Чосер, грубо пересказав этот эпизод в «Кентерберийских рассказах».
Рассмотрим сцену. В ледяных недрах 9-го круга Уголино вечно грызет затылок Руджиери дельи Убальдини, вытирая окровавленный рот волосами предателя. Подняв рот (не лицо!) от ужасного яства, рассказывает, что Руджиери предал его и заточил с сыновьями в башню. Сквозь узкое оконце он видел, как много лун рождалось и умирало – вплоть до той ночи, когда приснилось, что Руджиери с голодными псами охотится на склоне горы за волком и волчатами. На рассвете послышались удары молота, запечатавшего вход в башню. Прошли день и ночь в безмолвии. Уголино, терзаемый горем, кусал руки; дети, подумав, что отца мучит голод, предложили утолить его своей плотью, которую он породил. Между пятым и шестым днем Уголино видел, как дети умирают один за другим. Тогда он ослеп и говорил со своими мертвецами, рыдал и ощупывал их в темноте; потом голод оказался сильнее горя.
Я рассказал, как это понимали первые комментаторы. Вот Римбальди де Имола (XIV в.): «Он хочет сказать, что голод осилил того, кого горе не смогло победить и убить». Так же думают наши современники Франческо Торрека, Гвидо Витали и Томмазо Казни. Первый видит в словах Уголино отупение и угрызения совести; последний добавит: «Современники придумали, что Уголино под конец ел своих детей – мысль, противная истории и естеству»; и считает ненужным спор. Бенедетто Кроче согласен с ним, находя, что из двух толкований традиционное – логичней и правдоподобней. Бианки заключает весьма резонно:
«Некоторые полагают, что Уголино пожрал своих детей – толкование невероятное, но от него не отмахнешься». Луиджи Пьетробоно считает, что стих намеренно загадочен. Прежде чем в свою очередь принять участие в «ненужном споре», хочу на миг задержаться на единодушном предложении детей. Они просят отца взять их плоть, которую он же породил («tu ne vestisti queste miseri carni, e tu le spoglia»). Я подозреваю, что эти слова должны были все более смущать тех, кто восхищался ими. Де Санктис («История итальянской литературы», XI) размышляет над внезапным соединением разнородных понятий;
Д'Овидио замечает, что «эта отважная картина сыновнего порыва почти обезоруживает любую критику». Но я вижу здесь одну из редких неточностей «Комедии». По-моему, она скорее достойна пера Мальвези или восхищения Грациана, но не Данте. Данте, говорю я себе, не мог не почувствовать своей фальши, несомненно усиленной тем, что дети предлагают свое скудное угощение хором. Некоторые находят, что Уголино здесь лжет, пытаясь оправдать свою предыдущую преступную трапезу.
Исторически вопрос – занимался ли Уголино делла Герардеска в начале февраля 1289 года каннибализмом – неразрешим. Эстетически или литературно – совсем другое дело. Можно сформулировать так: хотел ли Данте, чтобы мы поверили, что Уголино (герой его поэмы, не подлинный) ел плоть своих детей? Рискну ответить: Данте не хотел убедить нас в этом, но стремился возбудить подозрение. Неуверенность – часть его плана. Уголино грызет череп Руджиери;
Уголино снятся острозубые псы, рвущие бока волка; Уголино, терзаемый горем, грызет себе руки; Уголино слышит невероятное предложение детей; Уголино, произнеся двусмысленный стих, вновь грызет череп врага. Эти действия внушают или символизируют ужасное событие. Выполняют двойную функцию: составляют часть рассказа и являются пророческими.
Р. – Л. Стивенсон (Этические опыты, 110) замечает, что герои книги представляют собою цепь слов – до этого уровня низводит он Ахилла и Пера Гюнта, Робинзона Крузо и Дон Кихота (что кажется нам кощунством). То же относится к Сильным мира сего – одна серия слов – Александр, другая – Аттила. Тогда об Уголино нужно сказать, что это – словесная ткань длиною в 30 терцин.
Стоит ли включать в нее мысль о людоедстве? Повторяю, что подозревать людоедство мы должны, страшась и сомневаясь. Отрицать или подтверждать чудовищное пиршество Уголино не так ужасно, как наблюдать его.
Изречение «Книга есть слова, ее составляющие» рискует оказаться бледной аксиомой. Но все мы пытаемся создать нечто оригинальное, и 10 минут диалога с Генри Джеймсом открывают «подлинный» довод: «требовалось потуже завинтить гайку». Не думаю, что это – правда; Данте, по-моему, знал об Уголино не больше, чем сообщают его терцины. По словам Шопенгауэра. 1-й том его главного труда состоит из одной единственной мысли, но он не мог изложить ее короче. Данте, наоборот, сказал бы, что весь образ Уголино – в спорной терцине.
В реальном времени, в истории, человек, оказавшись перед различными альтернативами, выбирает одну и забывает другие. Но в двусмысленном мире искусства, которое кажется и надеждой и сомнением – иначе. В этом мире Гамлет – и мудрец, и безумец. (Вспомним две знаменитые двусмысленности. Первая – «кровавая луна» Кеведо, одновременно и луна над полем битвы, и луна мусульманского знамени. Вторая – «умирающая луна» 107 сонета Шекспира-одновременно и луна на небе, и королева-девственница.) Во мраке своей Башни Голода Уголино пожирает и не пожирает тела любимых, и эта волнующая неопределенность, эта неуверенность и образует странную сцену. Уголино привиделся Данте в двух возможных предсмертных муках, и так его видели поколения.
Последнее путешествие Улисса
Я хочу рассмотреть в свете других пассажей «Комедии» загадочный рассказ, вложенный Данте в уста Улисса («Ад», XXVI). В развалинах круга, где караются обманщики, Улисс и Диомед вечно горят в двурогом пламени; Улисс, побуждаемый Вергилием рассказать, как он погиб, говорит, что когда он расстался с Цирцеей (продержавшей его более года на Гаэте), ни нежность к сыну, ни почтение к Лаэрту, ни любовь к Пенелопе не могли победить в его груди стремления узнать мир и людей с их пороками и добродетелями. На последнем корабле, с горсточкой верных, он бросился в открытое море; уже стариками они подошли к пучине, где Геркулес поставил свои столпы. У этого, положенного одним из богов предела честолюбию и дерзости, Улисс убедил товарищей познать под конец жизни мир без людей, нетронутое море – антипод. Напомнил, кто они, напомнил, что родились не для того, чтобы жить как скоты, но чтоб искать доблесть и знание. Они двинулись на запад, потом на юг, увидели все звезды южного полушария, 5 месяцев пробивались сквозь океан и однажды различили на горизонте темную гору. Она была непохожа на все виденное прежде, и моряки возликовали. Но радость вскоре перешла в отчаяние, поднялась буря, корабль трижды закружился и на четвертый раз утонул; такова была воля божья, и море сомкнулось над ним.
Таков рассказ. Многие комментаторы – от флорентийского анонима до Рафаэля Андреоли считали его авторским отклонением, полагая, что Улисс и Диомед – обманщики, предназначенные яме лжецов («е dentro dalla for fiamma si geme Fagguato del caval»), и это путешествие всего лишь мимолетная красочная выдумка. Томмазео, напротив, цитирует место из «Civitas Dei», а мог бы процитировать и Климента Александрийского, который говорит, что в южную часть земли человеку попасть невозможно; Казини и Пьетробоно поэтому осуждают кощунственное плаванье. Действительно, гора, увиденная греком перед тем, как его поглотила пучина – священная гора Чистилища, запретная для смертных («Чистилище», I).
Гуго Фридрих уверенно замечает, что «путешествие оказалось катастрофой, и она-не просто удел моряка, а повеление Бога» («Одиссей в аду», 1942).
Улисс, рассказывая о своем предприятии, называет его «безумным» (folle); в XXV песне «Рая» упоминается vacco folle Улисса – бессмысленное и дерзкое путешествие. Эпитет применен Данте в темном лесу, после волнующего предложения Вергилия («temo che la venuta под sia folle») [11], и он повторяется умышленно. Когда Данте вступает на берег, который видел перед смертью Улисс, то говорит, что никто из подплывавших сюда не мог вернуться; потом замечает, что Вергилий подпоясал его «Corn Altrui piaque» [12] – те же слова, что употребил Улисс, говоря о своем трагическом конце.
Карл Штейнер пишет: «Не думал ли Данте об Улиссе, который погиб в виду этого берега? Конечно, но Улисс хотел достичь его, опираясь на собственные силы, бросая вызов пределу, поставленному людям. Данте, новый Улисс, вступил сюда как победитель, вооружась смирением. Его вела не гордыня, а разум, просветленный благодатью». Этого же мнения Август Руэг («Jenseits Vorstellungen von Dante») [13]: «Данте-исследователь, подобно Улиссу идущий по непроторенным дорогам, проходит миры, никем из людей не виданные, и стремится к целям труднейшим и отдаленнейшим. Но здесь случается чудо. Улисс отправился в запретные авантюры на свой страх и риск; Данте отдается под руководство высших сил».