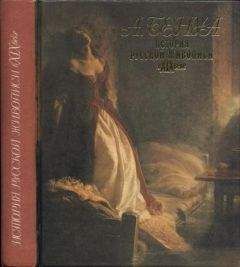Галина Ельшевская - Короткая книга о Константине Сомове
Евгений Михайлов, отмечая неспособность художника к перспективе и делая свои выводы на сей счет («из-за этого выпала не только работа в театре, но и такая интересная тема, как наш город»), тут же оговаривается по поводу единственного исключения: «С перспективой в пейзаже К. А. справлялся блестяще». Утверждение явно нуждается в комментариях, хотя многие «дачные» пейзажи (в этот разряд попадают виды Мартышкина, Сергиева, Силламяги, но также и Гранвилье — в иной период; «вся прелесть задумчивой русской природы» как бы продолжает жить в природе французской), написанные с непосредственностью натурных этюдов, вроде бы не дают сомневаться в его справедливости: в них даже есть непосредственный лиризм — почти в духе живописцев «московской школы», в начале века организовавших «Союз русских художников» и долго державших монополию на пейзажную лирику. Однако наряду и, главное, одновременно с такими вещами возникают работы, при взгляде на которые легко понять адресованные сыну упреки Андрея Ивановича Сомова — человека, конечно, пристрастного в поколенческом неприятии «необузданной декадентщины», но все же интеллигента, коллекционера и старшего хранителя Эрмитажа: «Что это за фигуры урода с двухсаженными ногами и девочки с четырех-саженными, будто бы сидящие на лугу, а на самом деле лезущие вперед из картинной плоскости?» Такой гнев вызвала гуашь «В августе» (1897), и нетрудно решить, что диспропорциональный сбой вызван лишь персонажами, появившимися среди зелени; между тем предшествующие риторические вопросы Сомова-старшего («Что это за луг, однообразно выкрашенный вблизи и вдали в яркую зеленую краску? Что это за дерево не с листвою, а с зелеными бликами вместо нее, испещренными массою запятых, и с наитончайшими прутиками вместо стволов?») могли бы относиться, скажем, и к безлюдному «Весеннему пейзажу» (1899), да и не только к нему. Тенденции к уходу от прямой и эмоционально окрашенной натурности к декоративному уплощению и хроматическому насыщению цвета, к схематической «фасадности» видов можно усмотреть у Сомова достаточно рано; характерно и то, как любимые им ландшафтные мотивы понемногу составляются в узнаваемый словарь. Меланхолия сумерек, дрожь мокрой листвы, трепет солнечных бликов и теней — все это еще всякий раз конкретно, но вот образ радуги после грозы, появившись однажды, мгновенно закрепляется в качестве едва ли не «фирменного знака» этой живописи; равно как возникшие позднее и тоже ставшие знаковыми образы костра и фейерверка. Присутствие этих мотивов сразу выводит на разнообразный круг семиотически существенных для художника тем, внеположных собственно «пейзажному»: мимолетности праздника и опасной тотальности огня — возможной расплаты за праздник, преображающего жизнь искусства и спасительной красоты; наконец, на чрезвычайно важную в рассматриваемом контексте тему недостижимого, заповедного для прикосновений. И, словно закрепляя существенность последней темы, постепенно исчезают открытый мазок и «широкая кисть» (следствие репинских уроков): живописная поверхность становится все более гладкой, матовой, проработанной.
Мстислав Добужинский с некоторым недоумением констатировал, что у Сомова, постоянно возвращающегося мыслью к необходимости работать с натуры, «рисунки „от себя“… получались гораздо „убедительнее“, чем с натуры. Она его как бы лишала уверенности, точно он робел». Иногда это и вправду выглядит как композиционная робость — словно позирующий, растянутый по авансцене строй деревьев, панорама, чья горизонтальность подчеркнута линией моста или балюстрады, «школьные» схождения декораций в центральную точку. Если признать, что, в отличие от целеустремленной вертикали, горизонталь репрезентативно-пассивна, сомовские пейзажные развороты, даже чисто натурные, покажутся свидетельством отвлеченной мысли о «правильном» природном строе. Однако в преобладании стелющихся ритмов обнаруживается и некая выраженная авторская воля: не впустить зрителя в глубину, затянуть возможный просвет плотным пятном цвета, кроной дерева или полукругом окаймляющих «заповедную площадку» стволов, «вздыбить» пашню и зеленый склон, уподобив то и другое аппликативным заплаткам на ткани. Собственно, даль не скрыта — туда уходит дорога и течет ручей, — но она как бы нивелирована горизонтальными штрихами («массой запятых», по едкому слову отца художника) или декоративно-насыщенным, отбрасывающим изображение на плоскость цветом. Напротив, ширь панорам декларируется преувеличенной дистанцией между ландшафтными планами или открытым горизонтом вне действия воздушной перспективы: глядящим с террасы дамам или подразумеваемым за рамой зрителям мир предложен для созерцания — чужой мир, не вполне соотнесенный с человеческой оптикой.
Действительно, человеческая фигура не является пропорциональным модулем этого пространства — более того, ее присутствие способно породить топологический сбой и вывих ракурса. Самые невинные житейские сюжеты, разыгранные в увиденных сверху парковых уголках, одновременно величественных и интимно-замкнутых («Конфиденции» «Купальщицы», «Поэты», «Семейное счастье»), кажутся — из-за несоотнесенности масштабов — подсмотренными исподтишка; чудятся здесь вуайеристские ситуации в духе гораздо более позднего «Осмеянного поцелуя» или даже «Книги маркизы». Природный космос выглядит напрасно и назойливо потревоженным людским копошением, неуместной сценой для мелочной обыденности и мелочных страстей. И оттого, что в изображении людей есть пристальная детализация, которой вовсе нет в трактовке ландшафтов (в «Конфиденциях» растительность написана широко и пастозно, в прочих — более сплавленно), эти фрагменты-«миниатюры» еще более дребезжат в общем звучании «ораторий».
Пространство, скомпрометированное «человеческим», вынуждает на соглядатайство. Оно не только не приемлет героев — оно, в сущности, отторгает и зрителей, фиксируя их взгляд на передней плоскости, у воображаемой линии рампы. Личный страх глубины уже в самых ранних портретах — вполне «репинской» реалистической линии — заставляет Сомова расположить позирующую Наталью Обер перед замыкающим возможный простор «занавесом» из ярких лоскутов сохнущего белья, а за спиной отца установить зеркало, обращающее вспять пространственную динамику (мотив зеркала встретится в его искусстве еще не раз). И в немногочисленных интерьерах — вроде бы идиллических по мотиву — тем не менее живет драма невозможности визуального прорыва, прыжка — через балкон и детскую — в манящий сад. Даль все равно предстает выгородкой, перспектива неглубока и замкнута, и фигуры, смотрящие в нашу сторону (из зеркала, от порога — границы между средой внешней и средой внутренней), снова разворачивают движение, не позволяя ему продлиться.
В этой пространственной заторможенности и в этих оптических диссонансах присутствует некое сознание утраты человеком своего места — сознание, безусловно, важное для рубежа веков, но еще и индивидуально существенное для Сомова (и проявившееся в его позднем творчестве — когда потеря гнезда сделалась ко всему прочему и биографическим фактом, — пожалуй, еще острее, нежели в раннем). Томительная неопределенность местопребывания вызвала к жизни жанр «ретроспективных портретов»: с них, собственно, началась сомовская слава.
Точнее, с одного из них — с «Дамы в голубом» (1897–1900), манифестной для всего мирискуснического движения и, по существу, исчерпавшей данный жанр целиком. Близкий к этому портрету повествовательно и по композиции «Портрет А. К. Бенуа» (1896) маскарадно-легок и не содержит конфликта, близкий по настроению «Портрет А. П. Остроумовой» (1901) не содержит травестийных элементов (разве что прическа модели стилизована под 1840-е годы), а последующий ряд костюмированных «дам» («Эхо прошедшего времени», «Дама в розовом» — обе 1903) уже демонстрирует выход из портретного пространства. Так что художнице Елизавете Мартыновой единственной выпало стать культовой героиней рубежа столетий; по словам восхищенного Игоря Грабаря, «Моной Лизой, Джокондой современности».
В разрыве между ее фигурой и тем, что происходит на заднем плане, будучи полускрыто густой, но витиевато-узорной кроной дерева, явлена метафора психологического дискомфорта. Книжное видение пары флейтистов на садовой скамейке и беспечного фланера с тросточкой (похожего на самого автора) обретает вид болезненной, навязчивой грезы, с которой не в силах справиться воспаленное сознание. Люди из круга «Мира искусства» задним числом оценили портрет еще и как пророчество: через пять лет после окончания работы Елизавета Мартынова умерла от чахотки, так и не дожив до успеха и счастья, не удовлетворив своих романтических порывов. Но Сомов сказал не только о своей подруге юности — он сказал о многих «легко-отзвучных душах» (слова критика Д. Курошева), которым «современный жизненный уклад представляется вечными буднями, влекущими размеренно и тоскливо к скрывающейся в тумане яме». Нарочито старинная одежда модели — платье синего муара по моде 1840-х годов, нарочито «старинствующая» живописная техника с прозрачными лессировками — все это словно бы призвано перевести пластически-пространственный разлад в литературную плоскость; тема поколения, безуспешно тоскующего об иной реальности, о красоте и легкости бытия, формулируется здесь наглядно и впрямую.