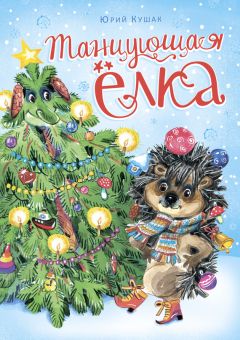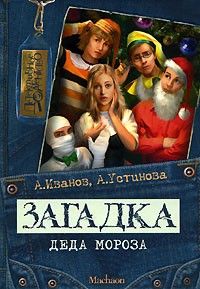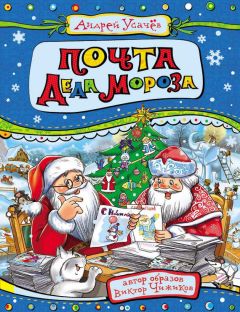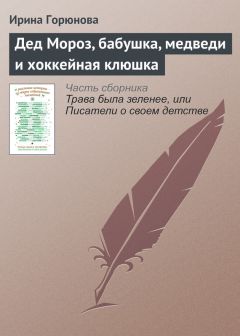Татьяна Дашкова - Мода — политика — гигиена: формы взаимодействия (на материале советских женских журналов и журналов мод 1920–1930-х годов)
Произошедшие в этот период изменения можно зафиксировать и на уровне «производителя дискурса»: на смену «окультуривающему» дискурсу гигиенистов, научающему основным бытовым навыкам, приходит «эстетический» дискурс специалистов. На это изменение, столь показательное для культурной ситуации 1930-х годов, обращает особое внимание и О. Гурова. Она отмечает, что, «говорящими в текстах становятся эксперты в области эстетики быта, вещей, тела — „специалистка косметического кабинета“, „директор института красоты“, „директор треста ТЭЖЭ“, „художник“, а не физиологи и гигиенисты, как это было раньше». Одежда обсуждается «в контексте темы телесной эстетики, взамен контекста телесной гигиены»[20]. Все это позволяет говорить о наступлении нового этапа как в истории советской культурной политики, так и в способах репрезентации моды.
Выше я обозначила журнальное пространство, внутри которого существовали и взаимодействовали различные понимания моды и женской телесности. Далее я рассмотрю формы взаимодействия трех дискурсивных практик — моды, политики, гигиены в женских и модных журналах конца 1920-х — начала 1930-х годов. Этот период представляется мне наиболее показательным прежде всего потому, что это время дискуссий о понятиях, разброда мнений и складывания идеологических представлений (которые к середине 1930-х годов уже отольются в нормативные идеологические клише). В мою задачу входит анализ форм и способов политизации модного дискурса. Я буду отталкиваться от следующих положений: если моду можно определить как сферу досуга, инновативности и демонстративности, то гигиена репрезентируется через идею полезности, закрепленную авторитетом науки. Политика в этой «связке» осуществляет функцию контроля и идеологического переформулирования положений моды, в том числе и посредством ее тестирования на гигиеничность.
Необходимо отметить, что проблематика моды и гигиены представлена в отмеченной периодике неравномерно: это касается как самих журналов, так и временных периодов. Так, наибольший интерес для меня представляют журналы конца 1920-х годов «Искусство одеваться» и «Женский журнал»[21]. Причем в первом доминируют сюжеты, связанные с модными тенденциями и отношением к ним (о чем свидетельствует само название): новости из мировых столиц моды, новинки отечественной моды и дизайна, история моды, модели одежды, выкройки, полезные советы. Во втором — больше внимания уделяется проблемам гигиены. Этот журнал претендовал на освещение значительно широкого спектра женских проблем (которые очень часто были опосредованы гигиенической проблематикой): «женские» аспекты политики, права женщин, вопросы любви, брака, детей, проблемы абортов и контрацепции, вопросы семьи и быта, модные тенденции, кулинарные рецепты, полезные советы. Важно отметить, что оба этих журнала перестали выходить к 1930 году. В этот период было закрыто большинство журналов мод. В других женских журналах — «уцелевших» («Работница», «Крестьянка», «Работница и крестьянка») и возникших во второй половине 1930-х годов («Общественница», «Моды», «Модели сезона») — интересующие нас сюжеты претерпели ряд изменений. Прежде всего, сошла на нет гигиеническая проблематика[22]: исчезли материалы, посвященные личной гигиене, абортам, контрацепции и вообще всей «телесной» проблематике, а также обсуждение модных тенденций, в том числе и в плане гигиены. В 1930-е годы вопросы моды и гигиены были вытеснены в отдельные («профессиональные») локусы: о моде стали информировать несколько журналов мод («Моды», «Модели сезона»). В этих изданиях были представлены лишь модели одежды, выкройки и их нейтральные (деполитизированные) описания, а гигиенические нормы стали предметом рассмотрения исключительно специальной медицинской литературы.
Кроме того, женские журналы и журналы мод 1920–1930-х годов являются не только собранием интересных сведений о моде и/или гигиене, но и уникальным примером для исследования взаимодействий внутри комплекса «мода-политика-гигиена». Мы можем наблюдать, как осуществлялось идеологическое переформулирование вопросов моды и гигиены. Причем мы имеем дело с некой «геральдической конструкцией», где в «сильной позиции» зачастую выступает не политика, а гигиена. Так, гигиена популяризировалась посредством политики («здоровые граждане полезны для государства»), т. е. присваивала себе политический образ. В этом можно видеть отличие профессионального гигиенического дискурса, представленного в научных журналах и сборниках, от популярного, складывавшегося в журналах и общедоступных брошюрах: первые практически полностью лишены политической составляющей, тогда как во вторых она доминирует. В то же время происходил и процесс инкорпорирования гигиены в область идеологии посредством наделения гигиенических норм символическими значениями. В текстах рассматриваемого периода можно выделить такие оппозиции, как «чистота тела/чистота души», «здоровье физическое/здоровье духовное» («в здоровом теле здоровый дух»), «красота тела/красота души». В журнальном дискурсе достаточно часто встречается операция по переформулированию гигиенических характеристик в характеристики морально-этические. Например, весьма распространены следующие смысловые смещения: «скверно… когда грязный парень направо и налево отправляет свои „научно-физиологические“ (sic!) потребности с грязными девушками, которых он нисколько не любит…»; «…чистейший в мире человек — Ленин» [Искусство одеваться 1928 № 1:3].
Мой опыт работы с журналами показал, что другая, «негигиеническая» политизация моды носила нерегулярный, «точечный» характер и выглядела скорее как эксцесс и/или эксперимент, чем как последовательная тенденция. Так, наиболее удачными попытками мягкой идеологизации моды можно считать разработку моделей прозодежды (костюмы для хирургов, пожарных, пилотов, продавцов и др.) известными художниками-конструктивистами А. Родченко, В. Степановой, Л. Поповой[23]; развитие традиций народного костюма Н. Ламановой[24]; поиски новых форм в спортивной и профессиональной одежде художниками В. Мухиной, А. Экстер, Е. Прибыльской, Н. Макаровой[25]. Более экзотические варианты — «идеологическая» роспись тканей (например, серпами и молотами[26]) и использование фабричных работниц в качестве «моделей» для демонстрации одежды (см., например, фотографию и подпись к ней: «Работница-галошница резиновой мануфактуры „Треугольник“ в платье, специально сделанном по рис. худ. Правосудович. Платье сделано из дешевого вельвета и отделано дешевой пестрой парчой» [Искусство одеваться 1928 № 1:1]).
Повторю, что в рассматриваемый период более характерным явлением было утверждение моды через констатацию ее гигиеничности. Внутри журналов можно обозначить сферы, внутри которых формировался единое поле говорения о моде и гигиене. Прежде всего, это тексты, связанные с одеждой: перечни гигиенических требований к одежде, обсуждение связи внешнего вида вещей и их гигиеничности, способы сохранения и чистки одежды и пр. В отдельную тему можно выделить журнальные статьи по проблемам здоровья: рассказы о том, какая одежда полезна/вредна для здоровья, обучение гигиеническим навыкам и нормам, знакомство со средствами гигиены, гигиенические требования к прическе, косметике и пр. Интересующая нас проблематика присутствует и в материалах о спорте и «культурном отдыхе» — одежда для спорта и гигиенические требования к ней. Аналогичную проблематику можно отследить и в статьях о беременности и детях — гигиенические требования к одежде для беременных и детей. Значительно более экзотично эта проблематика рассматривается в отношении вопросов любви и брака: в частности, обсуждается такая тема, как влияние чистоты и внешнего вида одежды на становление любовных/семейных отношений и на здоровье потомства. Отдельного внимания заслуживает реклама: гигиеническая составляющая может присутствовать в рекламе одежды, косметических средств, средств контрацепции и пр. За рамками исследования я оставляю лишь модный (описание моделей одежды) и гигиенический дискурсы (гигиенические советы по уходу за телом).
Неоднозначность анализируемой дискурсивной ситуации состояла в легитимации модных тенденций путем их гигиенического обоснования, но при этом выхолащивался сам смысл моды как культурной практики: насаждая идею полезности, гигиенический дискурс сводил на нет возможность неутилитарного подхода к одежде и внешности. Гигиенисты видели свою задачу в поддержании/возвращении телу и лицу изначального здоровья, а не в улучшении внешнего вида путем правильного подбора вещей и косметики. Весьма показательным является следующий журнальный пассаж: «Говоря о косметике, надо различать… средства, которые стремятся украсить природную внешность женщины, от того, что имеет целью скрыть искусственным путем какие-либо физические недостатки или следы разрушения, оставленные временем» [Искусство одеваться 1928 № у]. Иначе говоря, гигиенисты работали с «природой», а мода — с «эстетикой». Отсюда попытки дополнительного (неутилитарного) улучшения внешности/одежды трактовались как «буржуазное» излишество: «…цепляние за молодость с помощью искусственных ухищрений, скрывающих морщины или двойной подбородок — занятие легкомысленное и не стоящее (sic!); оно к лицу только праздным и изнеженным „барыням“, а не женщинам нашей эпохи. Ей не до того, да и нет у нее ни времени, ни шальных денег на покупки всякого рода дорогих пудр, красок для губ и пр.» [Искусство одеваться 1928 № 7].