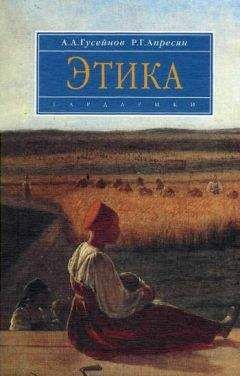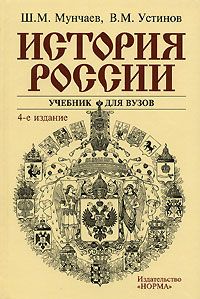Григорий Гуковский - "Слово о полку Игореве"
Вместе с тем Гуковскому приходилось не только разрабатывать принципы применения марксистской методологии к русской литературе XVIII века, но и отстаивать свое право заниматься этой литературой вообще. «Нужно ли доказывать необходимость изучения культуры прошлого, в частности изучения крепостнической и антикрепостнической культуры в период расцвета крепостничества?»* – спрашивал он на страницах тома «Литературного наследства», специально посвященного русскому XVIII столетию. Вопрос этот носил, однако, всецело риторический характер. Было ясно, что доказывать нужно. Недаром и статья, из которой извлечена приведенная цитата, называлась «За изучение восемнадцатого века».
* Литературное наследство. М.-Л., 1933. Т. 9-10. С. 296. По свидетельству И.З. Сермана, первоначально статья называась еще более выразительно «На защиту восемнадцатого века».
В том же томе «Литературного наследства» была опубликована статья Д.П. Мирского «О некоторых вопросах изучения русской литературы XVIII века», где совершенно недвусмысленно утверждалось: «Признание ценности Державина не должно заслонять его полной враждебности. Тем не менее допустимо переносить это признание на остальную дворянскую литературу XVIII века. Эта последняя не может рассчитывать на какое-либо возрождение, она сохраняет свой интерес только как часть огромного архива прошлого. <...> В этом архиве она занимает один из отдаленных закоулков»*. Надо сказать, что и большинство исследователей, так или иначе оспаривавших эту точку зрения, выдвигали на первый план в литературе восемнадцатого столетия третьесословные или демократические элементы, в большей мере достойные внимания советского литературоведения.
* Литературное наследство. М.-Л., 1993. Т. 9-10. С. 509.
Между тем Гуковский был глубоко убежден, что литература XVIII века и прежде всего ее наиболее художественно совершенная часть – литература дворянская заслуживает внимания современных читателей. «Анализ литературы XVIII века под углом зрения марксизма еще не начинался, – писал он в своей статье ... Мы должны открыть XVIII век для вузовца, для преподавателя школы, для рабочего, которого интересует судьба нашей литературы. <...> Наука изучает преимущественно живое, а не мертвое, потому что она питается художественными течениями, идеями и восприятиями общества ее создающего»*. Однако убежденность в том, что творчество «Державина, Карамзина, Сумарокова» – живое явление, требовалось подкрепить соответствующими социологическими выкладками. Гуковский находил здесь себе опору в выдвинутой им ранее концепции внутренней противоречивости и разнородности русского классицизма. Только теперь под эту разнородность подводились социально-классовые детерминанты.
* Там же. С. 319.
«Слишком часто у нас забывают о той сложной борьбе внутри дворянства, о той дифференциации его, которая конструирует социальную историю «верхов» русского общества XVIII века. Между тем изучение этой борьбы, анализ исторического облика (экономики, политического мировоззрения, бытового типа, культурного характера), например, вельможной, богатейшей придворной группы дворянства, земельных магнатов и торгашей, вслед за ними группы поместной аристократии, ринувшейся на штурм власти, служебных мест, культуры и вовсе не безусловно победившей, или, например, исследование судьбы расслоения и творчества зарождавшегося в конце века «третьего сословия», частью внутри сословной группы дворянства, частью вне ее <...> – все это могло бы наполнить историю литературы XVIII века содержанием»*.
* Там же. С. 309.
Гуковский взялся за решение этой задачи. В его книгах и статьях середины 1930-х годов, прежде всего в «Очерках по истории русской литературы XVIII века» (М., 1936), «Очерках по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» (Л., 1938), статье «Радищев как писатель» (Радищев. «Материалы и исследования». М.–Л., 1936), развернута фундаментальная и по существу единственная существующая социологическая интерпретация русской литературы XVIII столетия.
По мнению Гуковского, литературная ситуация середины века определялась «столкновением Ломоносова, корифея придворно-официальной русской литературы, с Сумароковым, родоначальником школы искусства независимых дворян-интеллигентов»*, причем если за первым стояли придворные меценаты и вельможные круги, то за вторым – родовое дворянство, заявляющее о своих претензиях на политическую и культурную гегемонию. При этом, если в политике сумароковцы терпели постоянные поражения, власть демонстрировала все менее готовности считаться с мнением дворянской оппозиции, то в литературе ей удалось добиться безусловной победы – до середины 70-х годов эта школа доминировала и в театре, и на журнальных страницах. С пугачевским восстанием положение этой социальной группы меняется – она осознает зависимость своего политического бытия от полицейской поддержки государства; соответственно среди писателей, выражавших ее позиции, происходит расслоение: одни (Богданович) идут на службу режиму, другие (Новиков, Херасков) склоняются к мистицизму, а их ученики (Муравьев, Карамзин) уходят от грубой реальности в субъективистский мир созерцания собственной души, третьи (Фонвизин, Княжнин), напротив, усиливают радикальность своих взглядов, переходя к почти открытой критике крепостничества и самодержавия как социальных институтов. С другой стороны, постепенно назревает протест социальных низов, и эти две струи соединяются в творчестве Радищева, объединяющего традицию радикальной дворянской оппозиции с крестьянской революционностью.
* Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750-1760-х годов. М.: Изд-во Академии наук. С.11.
Ясно, что схема эта нуждается в многочисленных оговорках, порою более чем существенных. С Гуковским можно спорить в характеристиках взглядов и общественных позиций отдельных писателей, можно упрекать его в излишней прямолинейности. Сегодня все это неудивительно. Удивительней другое – концепция, им предложенная, в основном работает. Пожалуй, помимо субъективных исследовательских свойств Гуковского, его аналитического дара и необъятной эрудиции, этому способствовали и объективные обстоятельства.
Дело в том, что во всей истории русской словесности именно литература XVIII века, пожалуй, более всего доступна социологическим методам. Она как бы еще не выделилась из общей социально-культурной среды в автономную сферу деятельности, не сформировала представлений о самодостаточности писательского труда и духовной независимости писателя. Даже преромантические идеи о боговдохновенном певце возникают здесь лишь к исходу столетия. Литераторы этой эпохи еще часто связаны с теми или иными политическими и общественными группами и безо всяких опосредований ориентированы на них в своем творчестве. Социологический анализ марксистского типа выглядит здесь, пожалуй, несколько перспективней, чем при разговоре о классике XIX века или, наоборот, древнерусской книжности. Гуковскому удалось сполна использовать предоставившиеся ему возможности.
Не вызывает сомнений, что работы Гуковского этого периода были наивысшим достижением марксистской мысли в советском литературоведении. Формалистская школа помогла ему довести свой социологический подход до поэтики исследуемых произведений и прежде всего до техники обращения интересовавших его авторов с поэтическим словом. Тем не менее дальнейшего развития эта методология в его работах не получила. Напротив, уже в «Очерках...» 38-го года заметны первые симптомы ослабления социологического пафоса. Общественная жизнь 1930-х годов властно потребовала от него еще одного существенного пересмотра недавно обретенных позиций.
Как хорошо известно, на всем протяжении 30-х годов пролетарский энтузиазм предшествующего периода постепенно вытеснялся своего рода новой официальной народностью. Стабилизировавшейся государственности требовалась подновленная историческая мифология позитивного свойства, и история русской литературы становилась одним из важнейших источников такой мифологии. Пушкинские торжества 1937 года стали предельно отчетливым выражением новой культурной политики. Применительно к литературе XVIII века еще 18 ноября 1936 года в «Правде» появилась подборка материалов, посвященных 225-летию со дня рождения Ломоносова, и в том числе передовая под заголовком «Гениальный сын великого русского народа», в которой утверждалось, что поэт, хотя и писал оды царям, все же был выразителем сокровенных чаяний народных масс. Классовому подходу предстояло быть вытесненным представлениями о всеобщей прогрессивности и народности русских писателей.
С одной стороны, такой подход сулил ученым, занимавшимся художественной культурой прошлого, известное облегчение. Их предмет заново обретал легитимность. Еще в 1934 году в Пушкинском доме была сформирована группа по изучению русской литературы XVIII века, с первого дня возглавленная Гуковским. Одновременно он начал преподавать в Ленинградском университете, где им была подготовлена целая плеяда крупных специалистов по этому периоду*. XVIII век вошел в вузовские программы и именно в связи с этим ученому и пришлось взяться за написание учебника. С другой стороны, возникали и трудности. В 1937 году был, правда, по тем временам ненадолго, арестован П.Н. Берков, ближайший сотрудник Гуковского по группе. Второй сборник «XVIII век» (первый вышел еще в 1935 году), подготовленный группой, был на несколько лет задержан**, памятником чего в учебнике осталась пометка «печатается» при ссылках на это издание. Но кроме этих внешних, хотя и драматических обстоятельств, существовали и внутренние, собственно научные проблемы. Ученый прекрасно понимал, что, сохраняя на знамени клятвы верности учению Маркса, официальная идеология требовала полного и безусловного отказа от недавней ортодоксии.