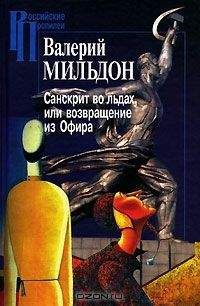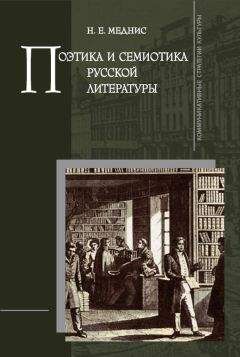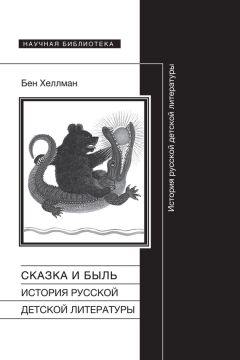Константин Богданов - Из истории клякс. Филологические наблюдения
Случаи Поля-Луи Курье и семиотика испорченного текста
1В понедельник 21 марта 1831 года Иоганн Эккерман записал в дневнике о своем очередном разговоре с Гете:
Перекинувшись несколькими словами о политике, мы снова вернулись к «Дафнису и Хлое». Гете назвал перевод Курье совершенным. <…> Мы еще поговорили о собственных произведениях Курье, о его маленьких брошюрках и о том, как он защищался от обвинений по поводу пресловутого чернильного пятна на флорентийской рукописи.
— Курье очень одаренный человек, — сказал Гете, — в нем есть кое-что от Байрона, а также от Бомарше и Дидро. <…> От обвинения в чернильном пятне он, видимо, сумел вполне очиститься, но вообще Курье человек недостаточно положительный, чтобы заслуживать безусловной похвалы. Он в неладах со всем миром, и трудно предположить, что на него не ложится какая-то доля вины и неправоты[335].
Случай, о котором вспомнил Гете, произошел более чем двадцатью годами ранее: 10 ноября 1809 года французский офицер и увлеченный филолог-эллинист Поль-Луи Курье (Paul-Louis Courier, 1773–1825), копировавший старинный флорентийский манускрипт с приписываемым Лонгу (Longus) греческим романом «Дафнис и Хлоя», запятнал его кляксой, безнадежно испортившей рукописный текст в размере нескольких печатных страниц. Чернильное пятно, как объяснял впоследствии сам Курье, осталось в рукописи от листа бумаги, которым он заложил копируемую им страницу, не заметив, что на него протекли чернила. Захлопнув фолиант, Курье придавил растекшиеся чернила, а через несколько дней, после того как пятно было обнаружено, стал героем скандала, который взбудоражил филологический мир и о котором, как свидетельствуют записки Эккермана, современники будут вспоминать годы спустя.
Накалу полемики в прессе и обществе вокруг кляксы, поставленной Курье на рукописи греческого романа, способствовало сразу несколько обстоятельств. Основным из них было то, что Курье испортил не рядовую рукопись, а совершенно уникальную. Уже то, что дело касалось рукописи «Дафниса и Хлои», делало происшествие из ряда вон выходящим. «Эротический», по общепринятому наименованию, и невинно сентиментальный по содержанию роман Лонга служил образцом жанра, связывавшего античную традицию пасторали с эстетикой барокко и классицизма. Популярные в литературе XVII–XVIII веков сочинения на тему пастушеских радостей на фоне сельской природы в большей степени опирались на роман Лонга, чем на его литературные прототипы — Феокрита и Вергилия, поощряя издателей к его многочисленным переизданиям (одно из них прославилось тем, что в качестве иллюстратора в нем выступил Филипп II, герцог Орлеанский и регент Франции при малолетнем Людовике XV). Но дела обстояли еще хуже. Рукопись конца XIII века (Gr. Conventi Soppressi 627, или Laurentianus А), испорченная Курье, была единственным экземпляром, в котором имелся пассаж, отсутствовавший во всех других известных манускриптах этого романа. Все известные ко времени Курье издания «Дафниса и Хлои» содержали пропуск, который в филологии получил название «magna lacuna» — большая лакуна, делавшая непонятным одно из мест в первой книге романа. Флорентийская рукопись этот пропуск восполняла. Курье успел скопировать соответствующий пассаж, но оставленные им чернильные пятна, по злой прихоти судьбы, испортили именно то место в рукописи (folio 23 verso), которое отсутствовало во всех других рукописных источниках, так что единственной возможностью судить об утраченном тексте стала отныне копия Курье. Для современников, причастных к филологии и осведомленных в особенностях эдиционной работы по изданию античных авторов, было ясно, что злополучное пятно в уникальной рукописи романа поставило их в определенную зависимость от прочтения, предлагаемого Курье, что — в контексте филологических приоритетов — делало само его имя навсегда увязанным с «Дафнисом и Хлоей»[336]. А это было уже немало. К этому, однако, добавлялись и вполне меркантильные подозрения в том, что Курье будет обладать отныне исключительным правом на новое издание романа. Подозрения и домыслы, последовавшие за происшедшим, подогревались эмоциями, о характере которых можно судить, в частности, по воспоминанию Франческо Дель Фурии, библиотекаря, помогавшего Курье в работе, а впоследствии главного инициатора развернувшегося скандала:
От жуткости увиденного у меня застыла кровь в жилах, и это было надолго, хотелось кричать, хотелось говорить, но голос не шел у меня изо рта, а ледяной холод сковывал мои члены. Наконец в негодовании, охватившем меня после причиненной мне боли, я закричал[337].
О том, что произошло в библиотеке, читающая публика узнала почти сразу из обширного меморандума, составленного профессором Доменико Валериан и, опубликованного в ведущем научном журнале Флоренции и почти сразу же вышедшего отдельной брошюрой[338]. В изложении обстоятельств дела Валериани не скупился на восклицательные знаки, предварив его красноречивой парафразой из «Энеиды» Вергилия: «Qvaesivit lucem, ingemuitque reperta» — «Отыскал свет и оплакал открытое»[339]. Кроме того, к тексту в обоих изданиях прилагалось впечатляющее изображение самой кляксы на разлинованной странице, масштабирующей испорченный лист рукописи.
Дель Фурия и Валериани были убеждены, что клякса в рукописи, с которой работал Курье, была сделана последним намеренно. Так же будут думать впоследствии Гете, Стендаль и многие другие современники Курье. Дополнительную скандальность ситуации придавало и то, что прискорбное событие произошло в Италии, но его виновником был француз, который к тому же прибыл во Флоренцию вместе со своим напарником и тоже французом — книгоиздателем и библиофилом Ренуаром (Renouard). На фоне сотрясавших в это время Европу наполеоновских походов все это (а также то, что и сам Курье был армейским офицером) придавало всему инциденту оттенок «милитаристского» вандализма и бесчинства на чужой территории. Лишним доводом в пользу такого подтекста стало и то, что итальянские власти запретили Курье публикацию скопированного им текста в любой форме. В свое оправдание Курье апеллировал к читателям в памфлете «Письмо к господину Ренуару об одном пятне, сделанном на манускрипте во Флоренции» («Lettre à M. Renouard sur une tâche faite à un manuscrit en Florence»), в котором с незаурядным красноречием иронизировал над запретом издания сделанной им копии и нелепостью шумихи, раздутой вокруг печальной, но извинительной оплошности:
Впрочем, я открыт к одной успокоительной мысли: Колумб разведал Америку и всего лишь был заточен в застенки, Галилей выведал истинную систему мироздания и удостоился ни много ни мало тюремного срока. Буду ли я, кто разыскал пять или шесть страниц текста, в котором обсуждается, кто поцеловал Хлою, подвергнут еще худшей участи? Что наибольшего я мог получить, чем публичная цензура со стороны суда. Но ведь наказание не всегда соответствует преступлению, и вот это-то и тревожит меня[340].
Памфлет Курье положил начало его популярности как литератора, ставшего впоследствии автором сочинений, критиковавших роялистский режим, полицейские власти, разврат и произвол духовенства и дворянства. Но пока его репутация определялась не этим, а злополучной кляксой. Курье оправдывался, однако поводы для сомнений в его искренности все-таки оставались. Так, пообещав вначале отказаться от копии рукописи со своей транскрипцией, он этого так и не сделал, но зато в феврале 1810 года не без обмана издателя издал в самой Флоренции полный текст «Дафниса и Хлои» (пусть и очень маленьким тиражом — всего 61 экземпляр) в переводе на французский (переработав и дополнив старый перевод Жака Амио стилизованным под него переводом новонайденного пассажа). В сентябре в Риме Курье издал (хотя также очень малым тиражом в пятидесяти экземплярах) и полный греческий текст романа с восстановленным по своей копии текстом (отрывок из этой публикации, восполнявший лакуну прежних изданий, в том же году был опубликован в Гейдельберге в рецензии на брошюру Валериани)[341]. А затем с 1813-го по 1821 год в Париже вышло еще пять франкоязычных изданий «Дафниса и Хлои», на обложке которых значились имена Амио и Курье[342]. Само это издание предварялось похвалой Курье и полным текстом вышеупомянутого «Письма к господину Ренуару»[343].
Вопрос о том, намеренно ли поставил Курье кляксу в рукописи, не решен по сей день: очень уж странным кажется то, что ученый заложил рукописный фолиант листом с растекшимися по нему чернилами и никак этого не заметил[344]. Позднейшие исследователи и публикаторы романа Лонга, вынужденные считаться с копией Курье, отмечали, что она, скорее всего, правильна в основном, хотя, возможно (по утверждению Карела Коубета, сравнившего ее с немногими читаемыми местами в оригинале) содержит искажения и некоторые погрешности[345]. Но аргументы в пользу того, что Курье, как на этом настаивал уже Дель Фурия, испортил рукопись сознательно, остаются по-прежнему гадательными: это либо представимое (но труднодоказуемое) стремление Курье к известности, одержимость скандальной славою, или, как допускает современный исследователь биографии и научного творчества Курье, свойственное последнему депрессивное и раздражительно «автодеструктивное» умонастроение[346]. Психологические догадки в этом случае опираются на жизненные события в судьбе Курье. Во Флоренцию Курье приехал, испытав ужас Ваграмского сражения (5–6 июля 1809 г.) и жестокое разочарование теми методами войны, которыми пользовался Наполеон. Прослуживший несколько лет в артиллерии, Курье к этому времени был уже год в отставке, но с началом франко-австрийской войны попытался снова определиться в действующую армию и для этого примкнул к штабу одного из артиллерийских генералов в качестве его друга. Оказавшись в гуще битвы и насмотревшись на горы трупов (в битве при Ваграме погибло почти 13 тысяч человек), Курье в тяжелом психическом состоянии добрался до Вены, откуда затем уехал (без дозволения военного начальства, которое продолжало считать его эскадронным офицером) во Флоренцию, в очередной раз резко поменяв свою жизнь.