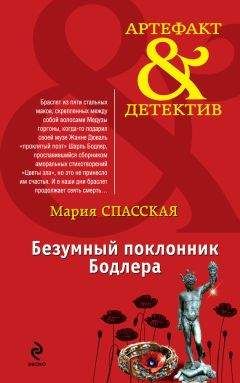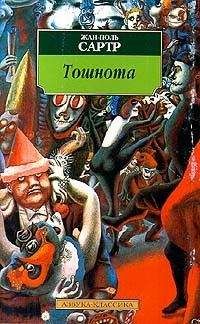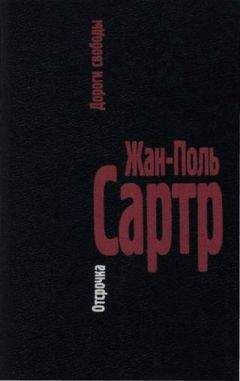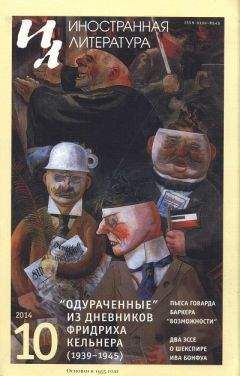Жан-Поль Сартр - Бодлер
Впрочем, этих предосторожностей оказывается недостаточно: Бодлер все равно пугается своей независимости. Дендизм, искусственность и театральность — все это было нужно ему лишь затем, чтобы стать господином самого себя. И вдруг его охватывает тоска, он пасует и жаждет лишь одного — превратиться в неодушевленную вещь, приводимую в движение извне.
Иногда, стремясь освободиться от свободы, он пытается свалить все на физиологическую наследственность:
Я болен, болен. У меня отвратительный характер, и повинны в том родители. Я мучаюсь из-за них. Вот что значит родиться от 27-летней матери и 72-летнего отца. Неравноправный, патологический, старческий союз. Подумай только: 45 лет разницы. Ты говоришь, что занимаешься физиологией у Клода Бернара. Так вот, спроси у своего учителя, что он думает о случайном продукте подобного соития.
Обратите внимание, как пылкость сочетается здесь со всяческими предосторожностями: Бодлеру хочется, чтобы его капитуляция, перекладывание всей ответственности на тело и на наследственность были санкционированы неким судьей, и потому он тотчас же обращается к Клоду Бернару. При этом, чтобы приговор выглядел как можно более суровым, он не колеблется состарить отца на 10 лет. Поэтому стоит ему только пожелать, и он сможет ускользнуть из-под ига физиологического проклятия; ведь заключение эксперта будет чудовищным и вызовет у него тот самый страх, который он и хочет испытать; на самом же деле этот страх будет не вполне реальным, поскольку судебный процесс построен на таких вещественных доказательствах, которые Бодлер сам же и подтасовал. Мы вновь обнаруживаем уже описанный нами механизм: Бодлер всегда оставляет для себя лазейку.
В иных случаях он возлагает ответственность на Дьявола. В 1860 г. он пишет Флоберу:
Меня всегда преследовало ощущение невозможности объяснить некоторые внезапные поступки или мысли человека, не допустив предположения о вмешательстве какой-то злой, внешней по отношению к нему силы.
В «Стихотворениях в прозе» говорится:
Я не раз бывал жертвой этих приступов, этих порывов, дающих нам основание верить, что какие-то коварные демоны вселяются в нас и заставляют нас без нашего ведома выполнять свои самые нелепые повеления… дух мистификации… имеет много общего… с тем настроением — истерическим, по мнению врачей, и сатаническим, по мнению тех, кто мыслит немного глубже, — которое неудержимо толкает нас на множество рискованных или несообразных поступков.
(«Стихотворения в прозе»: Негодный стекольщик).
Мистификация, беспричинные поступки, эти два непременных для дендизма обрядовых действа, вдруг превращаются в продукт каких-то окаянных внешних толчков. Бодлер оказывается всего лишь паяцем, которого дергают за ниточки. Это и есть отдохновение — великое отдохновение, которое дано камню и существам без души: в целом не так уж и важно, чему он приписывает свои поступки — Дьяволу или Истерии; суть в том, что он является не их первопричиной, а их жертвой. Отметим, однако, что, как обычно, Бодлер и здесь оставляет дверь приоткрытой: в Дьявола он не верит.
Короче, он не брезгует ничем, чтобы в собственных глазах превратить свою жизнь в судьбу. Однако, как показал Мальро, такое случается лишь в момент смерти. И кто может, спрашивает греческая мудрость, считать себя счастливым или несчастным до того, как умрет? Одно движение, вздох, мысль могут внезапно изменить смысл всего нашего прошлого: таков смертный удел человека. Бодлера ужасает эта ответственность, вдруг возлагающая на него бремя всего его прошлого. Он не желает подчиняться безжалостному закону, согласно которому наше сегодняшнее поведение ежесекундно меняет наши прошлые поступки. Для того чтобы прошлое окончательно стало тем, что оно есть, — чем-то нерушимым и не поддающимся совершенствованию, чтобы само настоящее променяло неискушенность и беспокойную незавершенность юности на неколебимость утекших в прошлое лет, Бодлер предпочитает смотреть на свою жизнь с точки зрения смерти — так, словно безвременная кончина привела его к неподвижности: он делает вид, будто покончил с собой, и если он столь часто заигрывает с мыслью о самоубийстве, то делает это, между прочим, и потому, что она позволяет ему в любой миг представить, что он остановил течение своей жизни. В любой миг, еще пребывая в живых, он уже стоит по ту сторону могилы; ему удалось добиться того, о чем как раз и говорит Мальро: его «непоправимое существование» оказывается прямо перед ним, непосредственно перед глазами, словно судьба; он может подвести под ним черту, подбить итог; в любой миг он ставит себя в положение человека, готового приступить к написанию «Воспоминаний о моей мертвой жизни». Так, будучи свободным и гордым преступником, Дон Жуаном в аду, бунтарем, он в то же время оказывается марионеткой Дьявола, погибшей, проклятой малюткой, родившейся от неравноправного союза, но прежде всего — распятой жертвой некоего греческого «фатума». Отныне никто на него больше не смотрит, но он не желает замечать, что обездвижен своим собственным взглядом, хотя под непрестанно обновляющимся, изменчивым покровом своего Существования он и различает некий устойчивый, неколебимый лик, который называет своим Существом:
Корабль, застывший в вечном льду.
Полярным скованный простором,
Забывший, где пролив, которым
Приплыл он и попал в беду!
(Пер. В. Левика.)
Вот почему, повторяем, Бодлер имеет возможность вести двойную игру: с одной стороны, чувство свободы делает не столь невыносимой безнадежную однозначность его судьбы, а с другой — сама уверенность в том, что у него есть судьба, позволяет ему постоянно прощать самому себе совершенные прегрешения, служит уловкой, облегчающей груз собственной независимости. Если смерть упоминается в его творчестве на каждом шагу, если она «опутывает (его) своими тонкими нитями еще крепче, чем жизнь», то причина прежде всего в том, что Бодлер, остро переживая свою единственность, алчет именно смерти, ибо свойством единственности обладает лишь то, что уже кануло в прошлое, то, «чего никогда не увидишь дважды». Между тем в силу того факта, что его существованию только еще предстоит завершиться, оно кажется Бодлеру уже завершенным; раз уж этому существованию суждено подойти к концу, то какая разница, когда это случится — завтра или сегодня; конец дан уже сейчас, в настоящем. Тем самым для Бодлера, словно в акте ложного узнавания, все, даже переживаемое ныне мгновение, предстает как нечто канувшее в прошлое. Однако если жизнь в настоящем есть некая спонтанность, непредсказуемость и необъясненность, то жизнь в прошлом, напротив, есть жизнь объясненная, включенная в цепочку причин и мотивировок. Бодлер, балансирующий между ощущением непоправимости всего с ним случившегося и ощущением, что все еще только должно начаться, пытается занять такую позицию, которая, в зависимости от интересов, позволяла бы ему перескакивать с места на место.
Недостаточно сказать, что он прибегнул к интеллектуальным ухищрениям только потому, что желал придать своей жизни цвет поблекшего цветка; нет, предпочтя двигаться задом наперед, обратив взор в прошлое, он осуществил радикальный поворот: сидя в мчащемся автомобиле, он вперяется в убегающую из-под колес дорогу. Трудно найти пример другого столь же застойного существования. Уже в 24 года он сделал все свои ставки, и все для него остановилось; однажды, рискнув, он проиграл раз и навсегда. К 1846 г. Бодлер уже наполовину растратил свое состояние, написал большую часть стихотворений, отношениям с родственниками придал их окончательную форму, заразился венерической болезнью, медленно его подточившей, повстречал женщину, свинцовым грузом нависавшую над каждым часом его жизни, совершил путешествие, из которого привез экзотические образы, наполнившие все его творчество. Произошла как бы кратковременная вспышка пламени, случилось одно из тех «сотрясений», о которых он столь часто упоминает, а затем огонь погас; Бодлеру не оставалось ничего, кроме как пережить самого себя. Ему еще не исполнилось и тридцати, а взгляды его уже сложились; в оставшиеся годы он будет их без конца пережевывать. Сердце сжимается, когда читаешь «Фейерверки» или «Мое обнаженное сердце»: в этих заметках, сделанных на закате жизни, не обнаружить ровным счетом ничего нового, ничего, что не было уже сто раз сказано, причем сказано лучше. И наоборот, «Фанфарло», новелла, написанная Бодлером в ранней молодости, приводит прямо-таки в остолбенение: в ней уже всё есть — и идеи, и форма. Критики неоднократно отмечали мастерство 23-летнего писателя. Однако с этого возраста он только и делал, что повторялся: те же перекоры с матерью, те же стенания и те же зароки, те же перебранки с кредиторами и те же препирательства с Анселем из-за денег; он поминутно совершает одни и те же грехи, осыпая свои заблуждения одними и теми же проклятиями; впадая в отчаяние, он всякий раз загорается одними и теми же упованиями. Он пишет о творчестве Других, вновь и вновь возвращается к своим старым стихотворениям, без конца их переделывая, его увлекает множество литературных замыслов, самые ранние из которых опять-таки восходят к ранней молодости; переводя рассказы Эдгара По, этот творец сам, однако, ничего не творит, довольствуясь перекройкой старых вещей. Множество переездов и ни одного путешествия; у него недостает сил даже на то, чтобы обосноваться в Онфлёре; социальные события, едва коснувшись его, проходят мимо. Правда, в 1848 г. он слегка возбудился, однако никакого искреннего интереса к революции не проявил. Все, что ему хотелось, — это чтобы кто-нибудь поджег дом генерала Опика. Впрочем, вскоре он вновь предался своим мрачным мечтаниям времен социального застоя. В нем происходит не столько процесс эволюции, сколько процесс распада. Из года в год он остается все тем же, только понемногу стареет, становится более угрюмым; его ум утрачивает широту и живость, тело дряхлеет. Для человека, шаг за шагом проследившего всю его жизнь, в слабоумии, которое в конце концов его настигло, нет ничего случайного; скорее это неизбежное завершение переживавшегося им упадка.