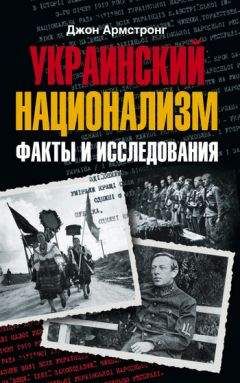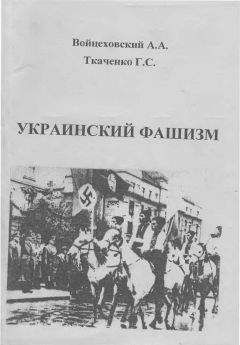Алексей Миллер - Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIХ века)
Но самую любопытную часть статьи Аксакова представляло помещенное им в конце письмо из Киева от — согласно характеристике Аксакова, — «одного истого Малоросса, ярого врага всякого сепаратизма».(17) Автор письма оговаривался, что не считает правильным настаивать на преподавании в школах «обязательно на малорусском». Но он решительно протестовал против «всякого стеснения в издании книг на этом языке», замечая, что не понимает, как книга может быть вредна «не по содержанию, а по языку, на котором писана». Эта специально выделенная в тексте почти буквальная цитата из письма Головнина Валуеву заставляет предположить, что автора опубликованного Аксаковым послания скорее нужно искать не в Киеве, но в Петербурге. Напомним, что статью Костомарова Никитенко не пропустил из-за вопроса о языке преподавания, и коррекция именно этой позиции в письме, опубликованном Аксаковым, позволяет предположить, что Костомаров был причастен и к этому тексту, по крайней мере информировал его автора о характере претензий цензуры. Завершалось письмо попыткой сформулировать, в форме риторического вопроса, новую, тактически более гибкую позицию в этом ключевом вопросе: «Что подумает любой хлебороб-Украинец, если ему растолкует какой-нибудь недоброжелатель великорусское негодование за то, что иной учитель вздумал объяснять детям грамоту на его материнском наречии и учил читать по книжкам, на нем написанным?» (18)
Таким образом, украинофилам даже в январе 1864 г. все же удалось выступить в печати с критикой позиции Каткова и циркуляра Валуева, хотя и не называя их имен. Это еще раз подтверждает, что Валуев запрета на обсуждение этой темы не накладывал, и запрет статьи Костомарова был личной инициативой Никитенко.
Позиция знаменитого цензора-мемуариста заслуживает дополнительного комментария. Никитенко был убежденным противником позиции украинофилов в языковом вопросе: в «Дневнике» он вспоминает, как еще в 1863 г. он резко возражал «горячему проповеднику малороссийского сепаратизма» Г. П. Данилевскому, выступавшему за «преподавание в малороссийских школах на малороссийском наречии». (19) Но это вовсе не означало в случае Никитенко неприязни к малороссам и малорусской культуре. 16 февраля 1864 г., то есть через три недели после решения о запрете статьи Костомарова и за три дня до записи о Данилевском, он пишет в «Дневнике»: «Здешние малороссияне решились сыграть на своем языке две пьесы Основьяненко „Щира любов" и „Сватання на Гончарівці". Игра была очень недурна, особенно отличалась некая г-жа Гудима-Левкович [...] Театр был довольно полон. И вообще спектакль этот удался. Он был дан в пользу семейств, пострадавших от войны». (20) Благотворительная цель «политически корректна», малороссийская специфика на театральных подмостках Петербурга не выглядит политической демонстрацией, и Никитенко все нравится.
В одной из своих статей того времени Катков очень точно описал причины эволюции, которую претерпел он, а с ним многие его сановные и рядовые читатели, от благожелательного отношения к «Основе» и первым планам Костомарова по изданию украинских книжек для народа в 1861 г. к жесткой антиукраинофильской позиции в 1863 г.: «Прежде с.-петербургские украйнофилы смиренно заводили журналец, для того, чтобы помещать в нем, между прочим, малороссийские сказочки и стишки, и трепетали, чтобы какие-нибудь неосновательные подозрения не помешали им в этом невинном и добродушном занятии; а теперь эти господа берут под свою опеку десять миллионов Русского народа и хотят навязать им особую народность, переводят на вновь сочиняемый ими язык законы Российской Империи и Священное Писание, открывают общественную подписку на издание малороссийских учебников, затевают издавать в Киеве народную газету на этом вновь сочиняемом языке и питают надежду, что правительство окажет им свое могущественное пособие на образование малороссийских школ, которых малороссийский народ не хочет, и которых могут хотеть только заклятые враги русской народности».(21)
Катков говорил языком современного ему европейского национализма: «Различия и противоположности между многими элементами германской и французской народности гораздо более резки, чем различие не только между особенностями великороссийскими и малороссийскими, но между разными славянскими народами, и однако же ни во Франции, ни в Германии, на основании этих особенностей, нет бессмысленной речи о двух французских народностях или языках, о двух немецких народностях или языках. Сколько нужно иметь отваги или сколько нужно иметь презрения к здравому смыслу общества, чтобы проповедовать о возможности двух русских народностей или о возможности двух русских языков!» (22) «Если теперь, когда еще нет ни особой народности, ни особого языка, находятся люди, которые осмеливаются предъявлять права особой народности и особого языка, — что же будет тогда, когда явится нечто похожее на особый язык?». (23)
«Может быть, в скором времени к украйнофилам присоединятся еще какие-нибудь филы», — указывал Катков на новую опасность и ссылался на информацию о проекте издания в Вильно газеты на «белорусском наречии». Он обвинял в этих планах «либеральный Петербург», который «во что бы то ни стало хочет оплодотворить все наши жаргоны и создать столько русских народностей и языков, сколько окажется у нас годных к отсечению частей». (24) Тема «укрепления русского характера» Западного края, в том числе Белоруссии, часто возникала в печати в начале 60-х гг., но Катков был первым, кто заговорил о потенциальной угрозе белорусского сепаратизма, причем в прямой связи с темой украинофильства.
Стремясь добиться националистической мобилизации общества, Катков именно в своей полемике с Костомаровым выдвинул программный тезис о ложности того либерального принципа, согласно которому считалось необходимым избегать открытой полемики в тех случаях, когда это могло навлечь на оппонентов преследования властей. (Вспомним, как без опаски излагал Кулиш свои взгляды С. Аксакову.) «Ловкие люди уверили наших либералов, будто долг рыцарства требует жмуриться при виде общественного зла и лжи и не называть их собственным именем», — так выглядела эта позиция в изложении Каткова. «Мы считаем долгом объявить нашим противникам, кто бы они ни были, что мы не будем стеснять себя никакими соображениями при изобличении действий, которые считаем вредными и ложными», — заявлял он. (25)
Обратим, однако, внимание на то, как Катков объясняет причины административного запрета. «Если бы г. Костомаров действовал в Германии, во Франции или Англии [...] никто не стал бы запрещать ему издавать ученые и учебные книжки на этом языке, — именно потому, что там подобные попытки не имели бы серьезного значения [...] Нигде не могла возникнуть мысль о преподавании в казенных школах на каком-нибудь другом языке, кроме языка общенародного, и нигде нет надобности протестовать против безвредных [...] попыток чудачества». В России же, по Каткову, «нужно толковать, и долго толковать о предметах самых понятных, как будто о каких-то мудреных умозрительных задачах». Даже правительство в России «состоит из лиц, которые на многие предметы смотрят с точки зрения совершенно противоположной». В условиях, когда украинофильство «может пользоваться сознательным или бессознательным содействием того или другого ведомства», «не должны ли другие, смотрящие на дело с противоположной точки зрения, усилить, сколько возможно, свое противодействие?» (26) Катков явно намекал здесь на Головнина, которого совершенно всерьез считал сознательным врагом России, связанным с революционерами и врагами России за границей. (27) Таким образом, Катков представлял Валуева предпринимающим вынужденные действия, дабы нейтрализовать благоприятствующие украинофилам шаги других ведомств. Парадоксальным образом оказывается, что даже самые решительные глашатаи националистических принципов видели в Валуевском циркуляре порождение не силы, но слабости русского национализма. Ни одна другая газета не высказалась в пользу Валуевского циркуляра.
* * *
Запрет украинских публикаций для народа стал результатом сложного бюрократического процесса, а также националистического перелома в общественных настроениях, во многом предопределенного польским восстанием 1863—1864 гг.
Мы можем оценить роль различных ведомств в этой истории. Военный министр Милютин, занимавший и в польском вопросе последовательную либерально-националистическую позицию, стал инициатором процесса. (Отметим, впрочем, что подтолкнувшее к этому Милютина письмо Сиверса было инспирировано кем-то в Киеве.) Мотором дела на более поздней стадии был киевский генерал-губернатор Анненков и подчиненные ему структуры, которые активно отстаивали меры запретительного характера и представили в целостном виде аргументацию этого решения. III отделение, будучи изначально довольно пассивным, после вмешательства Милютина и Анненкова выполняло координирующие функции. В июне 1863 г. эта координирующая роль перешла к министру внутренних дел, который и подписал запретительный циркуляр. Александр II по крайней мере трижды возникает в ходе процесса, когда к нему последовательно обращались Д. Милютин, Долгоруков и Валуев, и каждый раз способствует его активизации. Решение о запрете было им одобрено. Святейший Синод играл лишь пассивную роль в этой истории, исправно соглашаясь с запретительной тенденцией. Энергичные попытки противостоять запрету были предприняты на поздней стадии, уже после рассылки циркуляра, министром народного просвещения Головниным.