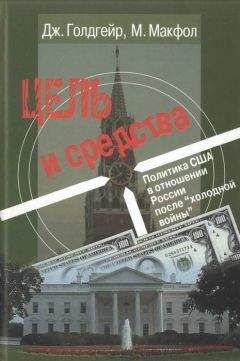Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
Всегда и во всем Иван видел себя главой единой религиозной цивилизации, он никогда не чувствовал себя просто военным или политическим вождем. Его военная кампания 1552 г. против казанских татар представляла собой в своем роде религиозный поход вроде осады Иерихона. На Красной площади был возведен большой Покровский собор, названный впоследствии собором Василия Блаженного, юродивого, покровительству которого приписывалось взятие Казани. Собор с девятью разновысокими позолоченными шатровыми главами, увенчанными луковичными куполами, являет собой вершину московской архитектуры, разительно отличаясь от сдержанных итало-византийских соборов, построенных в Кремле при Иване III. В этом пышном стиле эпохи расцвета Московского государства было построено немало церквей, более десятка из них при Иване IV были посвящены юродивым во Христе[204].
Законодательное собрание, созванное Иваном в 1549–1550 гг. и во многом предопределившее характер последующих выборных земских соборов, задумано было как церковный собор[205]. Сборник церковных постановлений 1554 г., известный как «Стоглав», был призван всего лишь «укрепить старые обычаи» путем строгого регламентирования всего и вся — от иконописи до бритья и питья. Для каждодневного духовного чтения предназначались объемистые, из 27 000 страниц, «Четьи Минеи» с изображениями почти всех святых[206]. Вся домашняя жизнь велась по полумонашеским правилам книги по домоустройству — «Домостроя». Даже опричнина была обременена обетами, укладом и облачением монастырского образца.
Такая радикальная перестройка общества на монастырский лад стала причиной упадка светской культуры на протяжении XVI в. Если раньше в России появлялось немало переработанных светских сказок и мифов, занесенных через южных и западных славян соответственно из Византии или с Запада, то «в русской литературе XVI в. не появилось… подобного… в русской рукописной традиции XVI в. не оказывается даже тех литературных произведений, которые были известны на Руси в XV в., а впоследствии, в XVII в., получили широкое распространение»[207]. Летописи и подновленные генеалогии, жития святых, героические сказания и полемические сочинения века очищались от «бесполезных россказней». Не только Иосиф Волоцкий, но и Нил Сорский одобрял подобную цензуру; а «Стоглав» 1551 г. установил целый ряд ограничений для светской музыки и всего светского искусства. Московское государство времен Ивана Грозного выделялось даже среди православных славян непомерностью своих исторических притязаний и религиозным укладом всей своей культуры.
Особенности московской цивилизации, окончательно сложившейся при Иване IV, наводят на исторические сопоставления не только с восточными деспотиями и западными империями, но и с двумя, казалось бы, несхожими цивилизациями: королевской Испанией и Древним Израилем.
Подобно Испании, Московия оказалась на пути чужеземных вторжений в христианский мир и в борьбе с захватчиками обрела национальную самобытность. Так же как и в Испании, в России военные действия освящала церковь. Фанатизм, порожденный слиянием политической и религиозной власти, превратил обе страны в непреклонных ревнителей исповедуемых ими ветвей христианства. Введение в Символ веры фразы «и от Сына», которое впервые раскололо Запад и Восток, произошло на соборе в Толедо, и нигде против него не выступали так резко, как в России. Русские и испанские иерархи были самыми непоколебимыми противниками примирения Восточной и Западной Церквей во Флоренции в 1437–1439 гг. Кстати, испанское представительство во Флоренции возглавлял родственник знаменитого инквизитора Торквемады.
В период стремительного роста русского могущества при Иване III ответ на вопрос, в ком видеть угрозу своей власти и как ей противостоять, русские иерархи нашли в далекой Испании. Даже если розыск «жидовствующих» в конце XV в. был вызван путаницей между ранними русскими названиями еврея («евреянин») и испанца («иверианин»), как было в свое время отмечено[208], кажется, нет сомнений, что многие из запрещенных текстов, которыми пользовались объявленные еретиками (например, «Логика» Моисея Маймонида), действительно попали в Россию из Испании. В поисках противодействия наплыву иноземного рационализма архиепископ Новгородский в 1490 г. с восхищением писал о Фердинанде Испанском митрополиту Московскому: «…Ано Фрязове по своей вере какову крепость держат! Сказывал мне посол цесарев про шпанского короля, как он свою очистил землю, и яз с тех речей и список к тебе послал»[209]. За восхищением последовало подражание методам испанской инквизиции, а идеологические чистки стали называться «очищением»[210]. Так что последовавшая затем чистка «жидовствующих» проводилась «по образцу не второго Рима, но первого»[211]. Традиционалистски настроенные заволжские старцы энергично выступили против дотоле неизвестных Русской Церкви методов испытания веры, бичевания и сожжения еретиков. Хотя московские чистки были направлены против римских католиков, применялись при этом, зачастую с редким неистовством, орудия инквизиции, процветавшей в Римской Церкви.
Странные отношения любви-ненависти постоянно существовали между этими гордыми, страстными и суеверными народами — и тот и Другой руководствовался народными сказаниями о неслыханном воинском героизме; и тот и другой вдохновлялся преданиями о местночтимых святых; и тот и другой сохранил до наших дней богатую музыкальную традицию древнего атонального народного плача; и тот и другой предназначен был стать плодородной почвой для революционного анархизма и гражданских войн с глубоко интернациональным подтекстом в XX в.
Во время наполеоновского вторжения, вызвавшего подъем национального самосознания, русские вновь с особой остротой испытали чувство общности с Испанией. Испанское сопротивление — «герилья», т. е. «маленькая война», — вдохновляло вождя русского партизанского движения в 1812 г.[212]. Реформаторы-декабристы послевоенного периода также черпали вдохновение в патриотическом катехизисе и конституционалистских планах своих испанских двойников[213].
Ортега-и-Гассет, один из наиболее проницательных испанцев XX в., отметил странное сходство между «Россией и Испанией, двумя оконечностями большой диагонали Европы… двумя коренными народами, нациями, в которых преобладают простолюдины». И в Испании, и в России «образованное меньшинство… испытывает трепет» перед народом и «не способно пропитать эту гигантскую народную плазму своим организующим влиянием. Поэтому русская действительность выглядит такой протоплазменной, аморфной, неизменно старомодной»[214]. Даже будучи менее «протоплазменной», Испания была столь же несостоятельна, как и Россия, в устремлениях к свободе, а в грезах о всеобщей справедливости образованное меньшинство «двух оконечностей» Европы обращалось к поэзии, анархии и революции.
Русские современники всегда находились под обаянием испанской страстности и непосредственности, видя в этом духовную альтернативу бездушной чопорности Западной Европы. Они идеализировали плутовские проделки Ласарильо с Тормеса и бессмысленное геройство Дон-Кихота — «пока последнее и величайшее слово человеческой мысли», по определению Достоевского[215]. Один русский критик преимуществом испанской литературы перед итальянской считал меньшую зависимость испанцев от классической античности[216]. Даже Тургенев, приверженный классике более других великих русских романистов, считал драмы Кальдерона равновеликими драмам Шекспира[217]. В произведениях Кальдерона русских привлекали не столько болезненная красота и благородные чувства, сколько прихотливая интрига и ироническая позиция человека, для которого «жизнь есть сон», а в истории «все предопределено». Горести русской интеллигенции периода заката царской России немногим отличаются от чувства горечи великого драматурга на закате золотого века королевской Испании:
Причина — сердце у меня в груди,
Оно столь велико, что ему страшно —
Не без причины, — как бы мир
Не стал для него слишком тесен[218].
Испания была единственной зарубежной страной, где Глинка, отец русской национальной музыки, чувствовал себя как дома. В путешествиях по Испании он записывал испанские мелодии и считал «единственными инстинктивными музыками» в Европе русскую и испанскую, отмечая их связь с восточными мотивами и способность выражать страдание[219]. В России первая западная опера с соответствующим страстным названием «Сила любви и ненависти» была поставлена испанцем в 1736 г.[220]. Испания была местом действия и более известной оперы, впервые поставленной в России, — «Силы судьбы» Верди, оперы, ставшей впоследствии, возможно, самой популярной — «Кармен» Визе, и не менее популярной западной пьесы — «Дона Карлоса» Шиллера, хотя все эти произведения были созданы в Италии, Франции и Германии соответственно. Местом действия «поэмы» Ивана «Великий инквизитор» в «Братьях Карамазовых» — одной из самых известных сцен величайшего романа Достоевского — также стала Севилья времен инквизиции. Это взаимное влечение обратилось неприязнью в XX в. из-за противоположных результатов русской и испанской революций. Почти все участники гражданской войны в Испании стали жертвами сталинских чисток в конце 1930-х и в 1940-х гг. Однако коммунистическое проникновение в Латинскую Америку в конце пятидесятых и в шестидесятых не только принесло политическое удовлетворение советским лидерам, но и вызвало в народе тихое завистливое восхищение наивным идеализмом кубинской революции, — возможно, как отзвук давней притягательности романтической Испании.