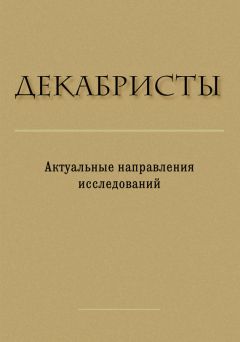Арон Гуревич - Индивид и социум на средневековом Западе
Нет ли переклички между такими эпизодами в сагах и сценами в эддических песнях, когда герой поступает опять-таки явным образом иррационально? Невозможно отождествлять этику героической поэзии с этикой саги, но все же отметим известный их параллелизм: внезапное, спонтанное, логически необъяснимое решение героя придает и песни, и саге новое измерение. Тема судьбы тесно связана с установкой на героизацию.
В двух эпизодах, в которых решается участь Ньяля и его семьи, судьба неотвратима. «Несудьба» – центральное понятие этой саги, замечает ее исследователь[75]. Судьба пробивается сквозь все человеческие ухищрения, разрушая планы и намерения людей. И потому самые мудрые и провидящие не могут предотвратить предначертанного судьбою. Конунг Олав Святой так и говорил Греттиру, что тот очень неудачлив и не может совладать со своей злой судьбой: «Ты – человек, обреченный на неудачу». О горькой судьбе Греттира говорят и другие персонажи саги, да и сам он этого не оспаривает.
Судьба, занимающая в саге важнейшее место, – ключевая концепция всего германо-скандинавского эпоса. Она сообщает повествованию огромную напряженность и динамизм. Идея судьбы объясняет смысл конфликтов между людьми и показывает неизбежность тех или иных поступков и их исхода. Подчас она материализуется в виде предметов, обладание которыми дает удачу, а утрата лишает ее. Таковы, например, плащ, копье и меч, подаренные Глуму его дедом; в эти предметы у сородичей была особая вера, но при их утрате удача покидает Глума («Сага о Вига-Глуме»).
Судьба выступает в сагах как взаимосвязь, как логика человеческих поступков, продиктованных нравственной необходимостью, однако эта субъективная, индивидуальная логика поведения осознается и соответственно изображается в виде объективной, от воли людей не зависящей необходимости, которой они не могут не подчиниться. Эпическому сознанию присущ глобальный детерминизм. Он воспринимается именно как идея судьбы.
С темой судьбы теснейшим образом связаны прорицания, видения, вещие сны. Они придают конструктивное единство повествованию, вскрывают внутреннюю связь событий и их обусловленность, как они понимались людьми того времени. Сага не любит неожиданности – аудитория заранее предуведомляется о грядущих судьбах персонажей. Но поскольку предвосхищение это выступает в виде прорицания, напряженность и интерес к повествованию не только не убывают, но, напротив, усиливаются, ведь важно узнать, как именно свершится предначертанное.
Тема судьбы и заведомого знания грядущего доминирует в песнях «Эдды». Сознание исландцев «стереоскопично» – они воспринимали героические легенды на фоне событий собственной жизни или жизни своих предков и вместе с тем эту бытовую жизнь осмысляли в перспективе героических идеалов и образов эддической поэзии. В духовном универсуме средневекового скандинава существовал пласт представлений, восходивших к героическому plusquamperfectum, и таившиеся в нем символы и мотивы оказывали свое воздействие на его поведение. Архаический индивидуализм находил свои пределы и ограничения в образах судьбы, которую, с одной стороны, индивид, казалось бы, формировал своими поступками, но которая, с другой стороны, представляла собой некую внеличную силу.
Вера и неверие
В контексте анализа вопроса об архаическом индивидуализме средневековых скандинавов мы не можем обойти молчанием нередкие упоминания в сагах персонажей, которые, по их словам, полагались только на «собственную мощь и силу» и не желали совершать жертвоприношений языческим богам-асам. Вопреки суждениям отдельных скандинавистов этих людей далеко не во всех случаях правомерно считать «благородными язычниками», внутренне созревшими для перехода в христианскую веру[76]. Им в равной мере могла быть чужда и религия предков, и новая вера, которую исландцы мирно приняли в 1000 году решением альтинга и которую в Норвегии насильственно вводили короли Олав Трюггвасон в конце X века и Олав Харальдссон (будущий святой) в первой трети XI века.
Как понимать формулу trúa á mátt sinn ok megin, которая встречается в сагах всякий раз, когда речь заходит о подобных безрелигиозных индивидах? Как мы знаем, саги подверглись записи преимущественно в XIII веке, т. е. уже в христианскую эпоху, и потому естественно предположить, что описываемые в них сцены, в которых фигурируют подобные «безбожники», интерпретируются с христианской точки зрения. Немецкий исследователь Г. В. Вебер, специально изучивший вопрос о безрелигиозности подобных героев саг, пришел к выводу о том, что упомянутая аллитерированная формула представляла собой древнеисландский аналог-перевод латинских выражений omni virtute et omnibus viribus или ex tota fortitudine, которые употребляются в Новом Завете. Подобные же кальки нетрудно найти в англосаксонских и старонемецких религиозных текстах[77]. Такого рода заимствования из библейского словаря вполне правдоподобны. Однако, странным образом, Вебер не обращает внимания на то, с моей точки зрения решающее, обстоятельство, что смысловые контексты, в которых употребляются эти формулы в Священном Писании, с одной стороны, и в сагах – с другой, совершенно различны. В самом деле, авторы псалмов, равно как и евангелисты Марк и Лука, у которых встречаются подобные выражения, имеют в виду силу, доблесть и духовную стойкость верующего, источником каковых является Творец; ведь именно в Нем, а не в самом себе независимо от высшей силы человек только и может почерпнуть эти добродетели. Не он – их источник, он лишь вмещает ниспосланную свыше благодать. Напротив, герой саги, заявляющий о своей безрелигиозности, верит исключительно в себя, в собственные способности, в свою личную судьбу и не нуждается в какой бы то ни было стоящей над ним сакральной инстанции.
Слова trú «вера» и trúa «верить» применительно к язычеству имели существенно иной смысл, нежели в христианстве. Отношение человека к языческому божеству не предполагало безоговорочного поклонения и безраздельной преданности низшего высшему, как не имело оно оттенка сыновней любви творения к Творцу. Языческие асы, естественно, были более могущественны, чем человек, и в их помощи и покровительстве нуждались люди, приносившие им за это дары и жертвы. Однако отношения между богами и людьми обладали характером договора, основанного на взаимном доверии: язычники служили асу, коль скоро он предоставлял им защиту и содействие, и считали, что вправе расторгнуть «договор» в случае, если божество им не помогало.
Годи Храфнкель, главный персонаж одноименной саги, совершал жертвоприношения богу Фрейру и как бы «на паях» владел конем Фрейфакси, которого он посвятил этому божеству и на котором поэтому запретил ездить кому бы то ни было. Но случилось так, что работник Храфнкеля нарушил этот запрет, за что хозяин его убил. Вызванный этим убийством конфликт между Храфнкелем и отцом убитого привел в конечном счете к осуждению Храфнкеля на тинге и изгнанию его из собственной усадьбы. Принадлежавшее ему капище Фрейра было разрушено, а конь Фрейфакси убит. Тогда Храфнкель якобы сказал: «Я думаю, это вздор – верить в богов» – и с тех пор никогда в них не верил и не совершал жертвоприношений. Удача на время изменила этому годи, утратившему не только свою собственность, но и власть над населением округи. Тем не менее по истечении нескольких лет Храфнкелю удалось вернуть себе былое могущество. Однако в саге ничего не сказано о возобновлении его связи с Фрейром или другими языческими богами. Вместе с тем он отнюдь не стал и христианином, и когда Храфнкель умер, его похоронили в кургане, положив вместе с его телом принадлежавшие ему сокровища, доспехи и копье. «Удача», «везенье» Храфнкеля – не дар богов или небес – это проявление его собственной силы и способностей.
И точно так же Одд Стрела, герой одноименной «саги о древних временах», был человеком, который не совершал жертвоприношений и верил только в «собственную мощь и силу». Этой же уверенностью в себе обладал Арнльот Геллини, явившийся к конунгу Олаву Харальдссону перед его последней битвой. Отвечая на вопрос конунга, крещен ли он, этот могучий великан сказал: «Этой веры [в собственную мощь и силу] мне до сих пор хватало. А теперь я хочу верить в тебя, конунг». На это Олав отвечал, что если Арнльот хочет верить в него, т. е. доверять ему, то он должен будет поверить во Христа. Так и случилось.
Разумеется, мы лишены возможности судить о том, что испытывали упомянутые в сагах (будь то сага «семейная» или «королевская», либо «сага о древних временах») безрелигиозные лица в X веке или в легендарную эпоху, – мы знаем лишь о том, как их мировоззрение расценивалось авторами саг в период их записи. Тем не менее в высшей степени симптоматично, что эти авторы, так же как и их аудитория, исходили из представления о возможности существования в дохристианское время индивидов, полагавшихся всецело на самих себя. Не служит ли такая самодостаточность индивида свидетельством внутренней самостоятельности его личности, самостоятельности в той мере, в какой она допускалась обществом? Эти безрелигиозные состояния, судя по сагам, были временными, ибо раньше или позже «безбожники», ушедшие от традиционных верований, принимали христианство, но переходили они в него опять-таки по собственной воле, руководствуясь нередко практическими соображениями.