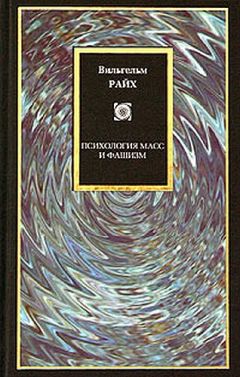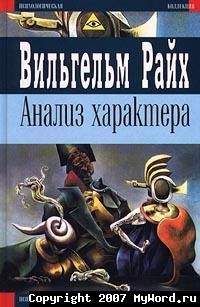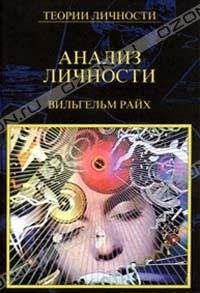Андрей Михалков-Кончаловский - Парабола замысла
Эта проблема кажется мне крайне важной и в то же время крайне сложной, запутанной. Даже в собственных картинах бывает трудно разобраться, с чьей точки зрения увиден тот или иной кадр. И в картинах других режиссеров тоже часто не легко осознать момент, когда меняется точка зрения — переходит от автора к персонажу или от персонажа к персонажу. Но при анализе очень важно уяснить, с чьей точки зрения увидены события, почему именно так они увидены.
Очень интересная была статья Сергея Антонова о Достоевском — “От первого лица” (напечатана в 1972 году в “Новом мире” № 10—11). Он дает разбор романа “Бесы” — очень кинематографичный разбор в своей сути. Речь идет о том, от чьего лица рассказывается история. В момент чтения мы обо всем этом не задумываемся, нас интересует поскорее узнать, что произойдет дальше. Но оказывается, что рассказчик к происходящему не нейтрален, причем и рассказчик-то не один. Повествование ведется главным образом со слов очевидца. К нему сам автор относится с иронией и нескрываемым недоверием. Очевидец — обыватель, восторженный либералишко, он все время что-то привирает. Прибегая к посредничеству очевидца, Достоевский вводит в рассказ момент отчуждения, своего иронического отношения к событиям. Но когда в рассказ входит Ставрогин, сохранять подобную интонацию уже невозможно, и Достоевский незаметно, может быть, даже непроизвольно соскальзывает на свой собственный, авторский голос.
Все это принципиально существенные моменты и в кино.
То есть и в кино важно точно найти дистанцию между автором и рассказом — либо полностью раствориться в нем, объективно фиксируя мир, либо, не скрывая, выражать свое отношение к происходящему, либо же показывать все с точки зрения персонажа — одного или разных.
В этом плане, как мне кажется, в “Андрее Рублеве” допущен некоторый просчет. Драматургический принцип построения сценария здесь в чем-то сродни “Сладкой жизни”. И тут и там в центре повествования один человек, все пропущено через его восприятие. В “Сладкой жизни” — это журналист Марчелло; его почти и не видно на экране, он появляется считанное число раз. В картинах, построенных по принципам объективной драматургии, главный герой должен был бы все время действовать — здесь он не действует, он наблюдает. Автор в известной мере идентифицирует себя с ним.
Оценка героем событий (пусть это всего лишь бесстрастное наблюдение — в самом факте этого равнодушия тоже очень важный смысл) не прекращается ни на мгновение.
В принципе с тем же прицелом выстраивался и сценарий “Рублева”. Глазами художника мы должны были видеть весь мир — радость, горе, надежду, отчаяние, человеческое величие, человеческую низость.
Но, как мне думается, Тарковский попал под обаяние материала — материала и вправду впечатляющего, мощного: фактура земли, бревен, ливни, раскисшая земля, толпы людей, монахи, татары, кровь, огонь...
Он всем этим настолько увлекся, что начал снимать какие-то важные куски, не окрашивая их отношением Солоницына — Рублева, не пропуская через его внутренний мир. Оттого по временам пропадает оценка материала героем — материал расползается. Хотя сам по себе он очень интересен. А вот в новелле про колокол эта мера субъективизации изображаемого найдена очень точно, и оттого она так нас захватывает.
В сценарии по-настоящему профессиональном всегда должен присутствовать заранее заданный автором взгляд на события. К сожалению, как правило, сценарии у нас пишутся от лица рассказчика, не имеющего никакой индивидуальности, пишутся одинаково бесцветно и невыразительно. А между тем даже простое смещение точки зрения на вещи может дать эффект поразительный. Ну, скажем, посмотреть на них с точки зрения ребенка. На экране убивают человека — это, конечно, всегда можно поставить впечатляюще. Но если увидеть то же глазами ребенка — все обретет иную глубину, пронзительность.
Несколько лет назад я написал сценарий о террористе, где все было пропущено через восприятие его ребенка, девочки.
Она растет одна, в деревне. Он приезжает “в свободное от работы время”. Девочка с ним играет в “дочки-матери”, стирает для него, гладит. Он для нее — любимый отец. Она — единственная радость в его жизни. Потом он уезжает — где-то там устраивает взрывы на аэродромах, горят самолеты, гибнут дети. Чужие дети. А потом он снова приезжает к ней, опустошенный, усталый. И с ней он снова человек. А потом снова уходит. И однажды не возвращается. А она его ждет... По-моему, очень интересный мог бы получиться фильм. Причем не так уж важно, где происходит действие. А вот оценка всего через взгляд ребенка — здесь не вопрос формы. Это вопрос смысла фильма, его идеи...
Мы пока еще не научились сколько-нибудь серьезно использовать возможности субъективизации зрения в кино. В театре такой возможности практически нет. Там дистанция между героем и зрителем определяется только трактовкой (режиссерской и актерской) персонажей. В кино же посредник — камера — позволяет необычайно свободно, многопланово препарировать, целенаправленно трансформировать мир фильма. Наделять его тем смыслом, который нам нужен.
СОТВОРЕНИЕ МИРА. СЪЕМКА
Когда я уезжал в Киргизию, чтобы начать съемки своей первой полнометражной картины “Первый учитель”, мне страшно было даже подумать о том, что предстоит снять целых 2700 полезных метров. Казалось: “Боже, какой это адский труд. Сколько кадров!” Но с практикой робость перед длиной и числом съемочных планов незаметно исчезла. Обнаружилось, что есть вещи потруднее.
Как известно, картина состоит из эпизодов. Эпизоды состоят из кадров и склеек между кадрами. Кадры состоят из внутрикадровых движений. И все-таки, если фильм есть, то состоит он не из кадров, склеек, перемещений персонажей и снимающей камеры. Он состоит из человеческих отношений и их развития. Без этого картина холодна и пуста.
Мне кажется, что по-настоящему я это понял только в работе над своими последними картинами. Даже не понял, а почти физически почувствовал. Человеческие взаимоотношения представляются мне осязаемо материальными, их можно выразить пластически, зримо.
Раньше, снимая фильм, я представлял себе кадры — из них выстраивался образ целого. Сейчас, работая над картиной, я стараюсь представить себе только одно: человеческие характеры, их проявление, их взаимоотношения.
Раньше импульсом к съемке был “гениально” придуманный кадр, возникало желание поскорее спроецировать на экран то, что увидел внутренним взором. Я до мелочей представлял себе будущий кадр, все происходящие в нем движения. Я точно знал, где их оборву, чтобы состыковать со следующим кадром. И даже открывая в дальнейшем какие-то новые для себя пути, добиваясь легкости и импровизационности языка, текучести фактур, я по-прежнему исходил из пластической образности. Не знаю, не могу проследить точно, когда во мне произошла эта перемена, но сейчас стимулы к съемке стали у меня совершенно иными. Желание стать к камере пробуждается, когда я до конца представляю себе идею фильма, характер героя. Когда чувствую необходимость проанализировать его поступки, материализовать их, воплотить в актерской игре.
В общем произошел некий диалектический скачок от формы к содержанию, к человеческому существу. Меня привлекают сейчас самые простые вещи, я обнаруживаю в них глубину, которой не замечал прежде. Хочу, например, снимать Гайдара — “Голубую чашку”, “Чука и Гека”, “Судьбу барабанщика” — пронзительнейшие по простоте, ностальгические вещи, так тонко и глубоко рассказавшие о своем времени...
Я бы солгал, если бы стал рассказывать о процессе съемок как о последовательной реализации стройного замысла. Увы, на практике (я, естественно, говорю о своей практике) ни последовательности, ни стройности нет в помине. Мы следуем не осмысленной очередности сцен и эпизодов, а просто подчиняемся наличной возможности — снимаем то, что сейчас можно снять. Снимаем куски из начала, из середины или из конца, лишь очень приблизительно представляя, какое место найдут они в будущей картине, в ее ткани. То, что приходит как случайность, потом оказывается важной закономерностью. То, что задумывалось как закономерность, потом оттесняется на периферию, становится побочной частностью. Сцена должна найти свое место в ряду многих сцен, из них должен сложиться целостный мир. А целостность нащупывается постепенно, в поиске. Мир фильма отыскивается по крупицам: вот здесь угадалась атмосфера, здесь — актерское чувство, здесь — тональность звучания, тут — получилось, там все надо переснять заново — в том же ключе, а быть может, в несколько ином. Или уже ясно, что от этой сцены надо вообще отказаться. Лично у меня приблизительно вся первая треть материала любой картины полна брака — все еще неясно, все еще только ищется.