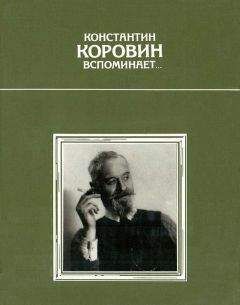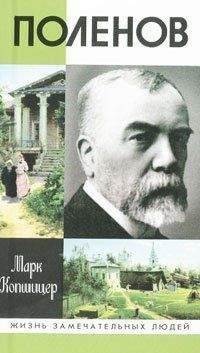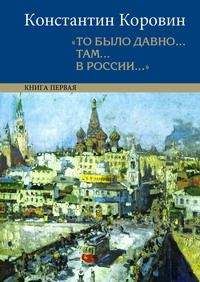Дмитрий Быков - Советская литература. Краткий курс
Такая острая жажда жизни всегда соседствует с непобедимым и неотступным страхом смерти, с ужасом перед ходом времени, с которым ничего не сделаешь; Бунин время ненавидел, растягивал, задерживал как мог, — главные свои темы Катаев столкнул в недавно опубликованном стихотворении сорок второго года (писал стихи до шестидесяти лет): «Ее глаза блестели косо, арбузных косточек черней, и фиолетовые косы свободно падали с плечей. Пройдя нарочно очень близко, я увидал, замедлив шаг, лицо скуластое, как миска, и бирюзу в больших ушах. С усмешкой жадной и неверной она смотрела на людей, а тень бензиновой цистерны, как время, двигалась по ней».
Она стоит, а время двигается; и ничего не сделаешь.
В поздних катаевских сочинениях эта тоска по уходящей жизни достигает такого накала, что читать их физически больно: обжигаешься. Неужели жизнь прошла? «Неужели все позади?» «Нет возврата!» Это рефрены его последних сочинений. «Неужели этот мальчик тоже я?!» Время и то, что оно делает с человеком, — так обозначал свою тему Бродский; но его тема скорее все-таки была — время и то, что оно делает с мрамором. А Катаев — живой человек, да, со слабостями, с увлеченьями, с одесскими шуточками, с конформизмом, с мучительным стыдом воспоминаний об ошибках, отступлениях и насилиях над собой; из всех талантов у этого человека — только музыкальное, ритмическое чувство формы и пластический дар, тесно связанный с животной, толстовской остротой восприятия. Этот человек любит хорошие вещи не потому, что чтит богатство или жаден до роскоши, но потому, что физически наслаждается шелком хорошего галстука, хрустеньем новой купюры, вкусом крепкого сладкого чая с красным ямайским ромом… Я почти ничего не помню из его семейной хроники «Кладбище в Скулянах», но как помню эту чашку чая с ромом! Чашку, которой он так и не выпил, — его, вольноопределяющегося, выгнали из буфета, где пить имели право одни офицеры. Всю жизнь мучила его эта чашка, хотя он выпил их таких с тех пор — бессчетно.
Катаев был писателем этой единственной темы — уходящего времени, уничтожаемых им на каждом шагу прелестных частностей, мелочей, деталей, этих превосходных вкусностей и роскошей, вещей и слов (ведь и слова стираются, из революционной музыки делаясь суконной агиткой); материал его всегда был один и тот же — Одесса, степной юг, море, революция, агитпоездка по деревням, арест, страшный тюремный двор, где расстреливали под рокот грузовика… Лучше всего он написал именно об этом — в «Траве забвенья», отчасти в «Вертере». Там похоронен лучший и ненаписанный его роман «Девушка из совпартшколы» — история девушки, которая должна была обманом заманить в свои сети организатора белогвардейского заговора и потом сдать его красным. Она заманила, влюбилась по-настоящему, сдала — и сломала себе жизнь на этом; больше ничего хорошего с ней не случилось. К этой истории Катаев присочинил вызывающе несоветский, мучительно горький финал — о том, как его красавица Клавдия Заремба, девушка с пороховой мушкой над верхней губой, доживает в болезни и одиночестве, железная девочка из Одессы, — а безнадежно влюбленный в нее повествователь сорок лет спустя встречает в Париже ее бывшего возлюбленного, того самого белогвардейца, которого она так любила и которого сдала. Он сумел тогда бежать — выпрыгнул из грузовика, в котором их везли на расстрел; бежал в Румынию, потом в Париж… О Клавдии Зарембе он не помнил.
К этой истории о любви и предательстве Катаев возвращался трижды, об этом написаны сегодня интересные исследовательские работы. Думаю, возвращение его к теме было обусловлено не только тем, что сам он был арестован в Одессе и чудом избежал расстрела; это к нему, а не к герою рассказа «Отец» Петру Синайскому, приходил на свидания несчастный, униженный, плачущий отец, любимый добрый папа из «Паруса» и «Хуторка в степи»; это он, Катаев, замирал у дверей камеры в третьей танцевальной позиции, почему-то веря, что это его спасет. Таких описаний страха смерти, какое есть в «Отце», немного в русской литературе. Но возвращение к теме объяснялось, конечно, не только этой травмой, — а тем, что тут опять сходились две катаевские темы. Невыносимая, острее не бывает, любовь к девушке из совпартшколы — и ужас смерти, являющейся ниоткуда, караулящей за любым углом. Вот еще одного катаевского альтер эго, поэта Рюрика Пчелкина, ловит в степи непонятно откуда взявшаяся банда; он чудом избегает расстрела (при нем документ от Одесского ревкома, удостоверение лектора-просветителя) — но даже и в этот миг, когда он бежит от толстого мужика, смеха ради палящего ему вслед, в голове его возникают стихи Николая Бурлюка: «Тихим вздохом, легким шагом, через сумрак смутных дней по лугам и по оврагам бедной Родины моей, по глухим ее лесам, по непаханым полям каждый вечер бродит кто-то, утомленный и больной, в голубых глазах дремота веет вещей теплотой… И в плаще ночей высоком плещет, плещет на реке, оставляя ненароком след копыта на песке»…
Гениально.
Он был истинно революционным художником и не лгал, называя себя сыном революции — в том смысле, конечно, что только революция позволила ему испытать это небывалое соседство любви и смерти. Больше того: он был самым революционным писателем России, потому что в революции, кроме любви и смерти, ничего интересного нет. Есть декреты, социальный взрыв, суконный новояз, бурное взаимное уничтожение красных и белых на почве тотального разочарования в социальном переустройстве (это может называться террором, а может — гражданской войной), но для художника это все, в общем, непродуктивно. Вот почему ранний Маяковский более революционен, чем вся его «Мистерия-буфф». Где столкновение любви и смерти, юношеской мучительной жажды и неотвратимой железной машины (тень цистерны) — там литература, и об этом весь настоящий Катаев. Трепет жизни на грани уничтожения, трепет лиственной тени на слепяще-яркой белой стене одесского полдня.
Я даже думаю, что он был странным набоковским двойником, его зеркальным отражением; один из главных законов всего живого на свете — парность, и почти у каждого нашего гения есть несомненный западный двойник. У Платонова, скажем, — Фолкнер. Тут можно проследить занятнейшие параллели (с Хемингуэем, впрочем, тоже). Набоков и Катаев зеркальны во всем — дело тут, конечно, еще и в социальном антагонизме. Оба, что интересно, атеисты; оба начинали как поэты, к революции относились одинаково страстно и пристрастно — один с обожанием, другой с ненавистью. Катаев сильно начал, с тридцатых по пятидесятые писал посредственно (не считая, конечно, «Паруса»), закончил блистательно; Набоков начал слабо, с тридцатых по пятидесятые писал исключительно сильно, закончил посредственно. Оба описали круг — опять-таки любимая фигура и любимый тип композиции у обоих. Насколько я знаю, Катаев Набокова ценил, называл его описания феноменом, чудом стиля; отзывов Набокова о Катаеве, по-моему, нет, но Ильфа и Петрова он обожал — не зная, что сюжет «Двенадцати стульев» подсказан именно Катаевым.
Я же говорю, он умел все.
Конечно, такую тоску по уходящей жизни способен испытывать только атеист. У верующих есть система утешений, более или менее действенных, — вот почему изобразительная сила Толстого, звериная сила обреченного, куда-то девается в его проповеднических вещах. Когда описывает, он знает, что конечен, — иначе откуда бы такая острота? Я исчезну, мир останется. Когда проповедует, он надеется, что воскреснет, что никуда не денется… как знать, вдруг есть хоть какой-то шанс? Но голодная цепкость глаза — дар обреченных; Бунин мог сколько угодно восхищаться Божиим величием — художник, он понимал и ценил другого художника; но в бессмертие уверовать не мог никак. Какое бессмертие, когда такие яркие краски, такой зной, такая абсолютная, исчерпывающая полнота бытия в минуты сильной любви и столь же полного, совершенного отдыха? Какое бессмертие, когда такой блеск моря, шелест и запах акаций, белая чесучовая толпа, немыслимая небесная синь, какая может быть вечная жизнь, когда за всем этим блеском черной подкладкой стоит такая несомненная, такая явная смерть?
Конечно, он был южанин. Южанин настоящий, морской, одесский, хитрый и жовиальный, но без вечной еврейской уязвленности — и одновременно без еврейского чувства причастности к какой-то великой спасительной общности, без той причастности, которая позволяла Бабелю, вечному чужаку в Конармии, в любом местечке немедленно почувствовать себя своим. Отсюда и бабелевская раздвоенность — входя в эти местечки как конармеец, иногда вынужденно участвуя в боях и грабежах, он был и жителем их, жертвой боев и грабежей; в этом исток неповторимой интонации «Конармии» — интонации жертвы и мстителя; это ведь книга покаянная. У Катаева этого не было. Жадность к жизни, страстность, темперамент — и сладкое чувство, что нечего терять.