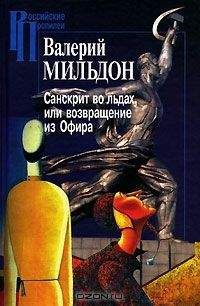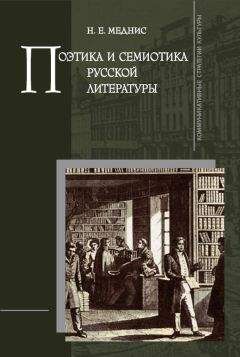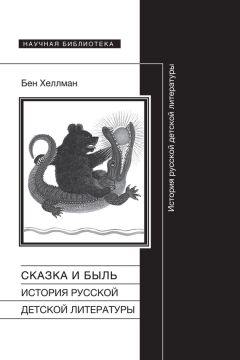Константин Богданов - Из истории клякс. Филологические наблюдения
Так, например, в хрестоматийной для польской литературы комедии Александра Фредро «Месть» (Zemsta, 1834) слово żyd по контексту употребляется в значении «клякса» (сцена такова: пан читает письмо, написанное под его диктовку дворецким; спотыкаясь о каракули, он в конечном счете в негодовании натыкается на кляксу[281]) и вместе с тем ассоциативно небезразлично к юдофобским предрассудкам современной для драматурга и высмеиваемой им мелкопоместной шляхты. Еще более нарочито такое словоупотребление в литературных и публицистических текстах, целенаправленно затрагивавших «еврейскую тематику»[282]. В устойчивой традиции польского антисемитизма XIX-го и начала XX века евреи столь же часто именуются кляксами, как и кляксы — евреями[283].
Польскоязычные примеры соответствующей синонимии можно было бы счесть достаточными, чтобы судить о ее происхождении (вопрос о том, откуда Достоевский почерпнул свое выражение, с этой точки зрения не исключает польского адреса[284]), но возможное в этом случае этимологическое объяснение («żyd» — еврей > «żyd» — клякса) осложняется хронологически, так как та же синонимия еще ранее представлена в немецком языке. Такова, например, игра со значениями слова «Klecks» в каламбурной эпиграмме Готхольда Эфраима Лессинга «На художника Клекса» (впервые напечатанной в собрании сочинений Лессинга 1771 года, а затем многократно переиздавашейся и ставшей одним из хрестоматийных стихотворений немецкой литературы):
Mich malte Simon Klecks so treu, so meisterlich,
Daß aller Welt, so gut als mir, das Bikinis glich[285],
[Меня нарисовал Симон Клекс настолько правдиво и мастерски,
Что со всем миром, так же хорошо, как и со мной, эта картина сходствует]
что обычно понимается в том смысле, что портрет на картине может быть схож с кем угодно[286]. «Klecks» в этой эпиграмме, конечно, прежде всего вымышленное имя, обозначающее плохого художника — того кто «кляксит» и «марает», но вместе с тем это, стоит заметить, фамилия еврея Симона (имя, совершенно невозможное для немца XVIII в.). Лессинг, оставшийся в истории немецкой литературы автором двух пьес, декларативно осуждавших антисемитизм, — юношеской комедии «Евреи» (1749) и написанной через тридцать лет после нее драмы «Натан Мудрый» (1779) — и удостоившийся из-за этого на заре немецкого нацизма поношения в знаменитой книге Адольфа Бартельса «Лессинг и евреи» (1919)[287], едва ли может быть заподозрен в том, что эпиграмма «на художника Клекса» подразумевает обратное. Вместе с тем, будучи поборником космополитизма и религиозной терпимости (разделявшейся в 1750–1770 гг. и другими видными немецкими литераторами — Христианом Геллертом, Фридрихом Клопштоком, Христофором Виландом), Лессинг был достаточно далек от этно-религиозного ригоризма, возбранявшего иронизирование по адресу евреев[288]. В данном случае такая ирония была тем уместнее, что, давая своему герою «говорящее имя» Klecks, Лессинг приравнял его к другим, словообразовательно узнаваемым еврейским фамилиям[289]. Учитывался ли Лессингом при этом еще и фразеологический контекст возможного употребления слова «клякса» в значении «еврей», остается гадать, но даже если и нет, важно то, что имя «Клекс» в эпиграмме Лессинга, как бы то ни было, хрестоматийно закреплено за евреем.
Семантическая многозначность слова «клякса», подразумевающего указание на евреев, обыгрывается, на мой взгляд, и в таком хронологически близком к стихотворению Лессинга произведении немецкой литературы, как драма Фридриха Шиллера «Разбойники» (1781). Такова знаменитая фраза, вложенная Шиллером в уста Карлу Moopy: «Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum» (I, 2)[290] — букв. «Меня тошнит от этого чернильнокляксящего столетия». Изречение Моора стало одним из крылатых выражений и обычно понимается как осуждение века никчемного сочинительства, продажной журналистики или, в более широком значении, как осуждение эпохи типографски тиражируемой литературы — в противопоставление «дочернильной» эпохе героических преданий. Контекстуально такое толкование поддерживается сочувственно упоминаемым в том же пассаже Плутархом, с именем которого знаково связываются повествования о легендарных героях и событиях греко-римской истории. Для немецкоязычной традиции интерпретации шиллеровского афоризма указанное истолкование остается расхожим и сегодня[291], для традиции русских переводов оно еще более привычно, так как закреплено лексическими лакунами и ассоциативными парафразами[292], но при учете ближайшего к нему языкового и содержательного контекста не столь очевидно и не столь однозначно, как это может показаться на первый взгляд. Филиппики Моора по адресу современной ему эпохи диалогически контекстуализируются его разговором с евреем Шпигельбергом, образ которого в пьесе небезразличен к содержащимся в ней упоминаниям и рассуждениям об иудаизме и роли евреев в немецкой истории. Похвалы Моора Плутарху не случайно здесь же и сразу соотносятся с похвалами Иосифу Флавию, которого Шпигельберг рекомендует читать Моору вместо Плутарха. Последующий — двусмысленно-иронический — призыв Шпигельберга к Моору восстановить «иудейское царство» и описание радужных перспектив такого восстановления венчаются самозабвенным мечтанием о торжестве всемирного еврейства и саркастически осложняют одну из главных тем «Разбойников» — проблему национального вырождения и будущего нации, в которой ее лучшим представителям не находится достойного места[293]:
Издадим манифест, разошлем его на все четыре стороны света и призовем в Палестину всех, кто не жрет свиного мяса <…>. Руби ливанские кедры, строй корабли, сбывай кому попало старье и обноски! <…> «Шпигельберг! Шпигельберг!» — будут говорить на востоке и западе. Пресмыкайтесь же в грязи, вы, бабье, гадины! А Шпигельберг, расправив крылья, полетит в храм бессмертия[294].
Вместе с тем помимо общего историософского подтекста «Разбойников» важно учитывать, что весь негодующий монолог Моора, прерываемый циническими тирадами Шпигельберга, мотивируется полученным им отказом в ссуде со стороны неких ростовщиков. О том, что речь в данном случае идет о евреях, можно судить вполне определенно, так как помимо проклятий по адресу «чернильнокляксящего столетия», таких же проклятий здесь удостаиваются те, кто «проклинают саддукея за то, что он недостаточно усердно посещает храм, а сами подсчитывают у алтаря свои еврейские налоги» (Verdammen den Sadducäer, der nicht fleißig genug in die Kirche kommt, und berechnen ihren Judenzins am Altare). Вне зависимости от того, заслуживает ли сам Шиллер репутации юдофоба или нет[295], антисемитского прочтения текст «Разбойников» во всяком случае не исключает. Здесь, например, показательны доводы, которые в 1944 году приводил депутат Рейхстага Фабрициус, возмущенный снятием в сценической постановке Густава Грюнд-генса (24 июня 1944 г.) каких-либо упоминаний о евреях, тогда как, по его мнению, уже сам характер Шпигельберга — «его трусость, жажда наживы, поза мирового благодетеля, безродный интернационализм (вполне уживающийся с сионистскими и национал-иудейскими устоями), его антивоинственность, сексуальная распущенность и деморализующее влияние» — достаточно оправдывает ту «борьбу не на жизнь, а на смерть», которую ведет нацистская Германия с «мировым еврейством»[296].
Рискнем допустить поэтому, что и фраза о «чернильнокляксящем веке» подразумевает осуждение не авторов и типографий, печатающих всякую дрянь (пусть такие осуждения и имели место в действительности[297]), а евреев-ростовщиков, в изображении которых европейская и, в частности, немецкая культура со времен Средневековья до середины XIX века устойчиво тиражирует и их атрибуты — долговые книги и расписки, письменные принадлежности и склянки с чернилами[298].
В качестве примера из русской культуры здесь можно вспомнить стихи из «Скупого рыцаря» А. С. Пушкина (1830) — слова Альбера, готового взять ссуду у еврея-ростовщика, к своему слуге:
Сбегай за жидом проклятым,
Возьми его червонцы. Да сюда
Мне принеси чернильницу. Я плуту
Расписку дам[299].
С учетом ходового (и словарно зафиксированного) для времени Шиллера фразеологизма, инвективно отождествляющего евреев с кляксами, такое предположение представляется мне более оправданным в контексте мооровского монолога, мотивированного досадой на ростовщиков и вырождением нации (вспомним, что еще одна инвектива, которой Моор здесь же одаряет свой век, — определение его как «schlappes Kastraten-Jahrhundert» — «вялый век кастратов»), чем гипотеза о том, что он всего лишь пеняет на литературу и письменность[300].