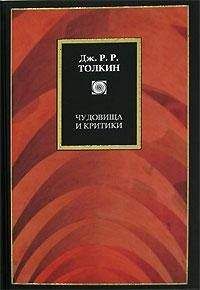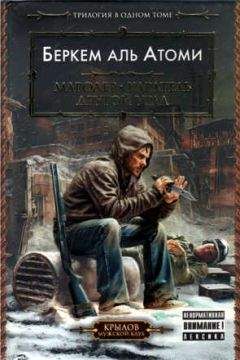Поль де Ман - Слепота и прозрение
Даже в представленном нами кратком перечне имен можно наблюдать различные степени сложности процесса. В случае «Эссе о романе» Лукача мы оказываемся перед явным противоречием. Два отчетливых и несовместимых высказывания противопоставлены друг другу в псевдодиалектическом отношении. Сначала роман определяется как иронический модус, обреченный на непоследовательность и случайность; таким образом, необходимый для его формы тип всеобщности должен быть, в сущности, и даже в явлении, отличен от органического единства природно сущего. Однако тон самой статьи не иронический, а элегический: она ни на миг не способна оторваться от понятия истории, которая сама по себе органична и подчинена изначальному истоку — эллинскому эпосу, — которому неведомы ни непоследовательность, ни разорванность и который потенциально содержит в себе все последующее развитие. Такая ностальгия в конечном счете приводит к синтезу современного романа — в «Воспитании чувств» Флобера единство присутствует вопреки всем содержащимся в нем отрицательным моментам. Второе утверждение, что «время наделяет его [«Воспитание чувств»] видимостью органического роста», прямо противоречит первому, не допускающему ни видимого, ни действительного сходства с органическими формами.
Особое значение имеет то, что категория, посредством которой, по предположению, достигается такой синтез, это именно время. Время действует как исцеляющая и примиряющая сила, направленная против отчуждения, дистанции, по-видимому, образующейся вследствие деспотического вторжения трансцендентальной силы. Отчасти непроницаемое экзегетическое давление на текст обнаруживает, что этот трансцендентальный агент имеет временную природу, а то, что предлагается в качестве средства излечения, само оказывается болезнью. Негативное высказывание о существенно проблематичной и саморазрушающей природе романа оборачивается обоснованием возможности возвращения, в конце своего диалектического развития, к истоку, о котором совершенно вымышленным образом, хотя и ошибочно, говорится, что он обладает историческим бытием. Понятие времени работает на двух не согласующихся между собой уровнях: на органическом, где есть начало, последовательность, рост и всеобщность, выразительное и твердое высказывание; и на уровне иронической осведомленности, где все непоследовательно, отстранено, фрагментарно, где все настолько неявно, настолько скрыто под спудом ошибок и обмана, что невозможно подняться до предметного высказывания. Лукач в своей статье не говорит о решающей связи между временем и иронией. Однако именно в силу ее существования текст способен донести что-то до читателя. Выявлены и сопоставлены между собой три решающих для этой проблемы фактора: органическая природа, ирония и время. Редукция романа, как примера литературного языка, к взаимодействию трех этих факторов является прозрением величайшей значимости. Но способ, каким описывается их взаимодействие, сюжет, внутри которого они должны сыграть свою роль, совершенно неверны. В истории Лукача главный злодей — время — показан как герой, и когда он фактически губит героиню — роман — он предстает как избавитель. Читателю дается ключ к расшифровке действительного сюжета, скрытого за псевдосюжетом, но сам автор остается обманутым.
Другие примеры, хотя, быть может, и не так явно, обнаруживают ту же модель. Американские новые критики описывают литературный язык как язык иронии, вопреки тому, что такое описание остается в рамках колриджевского понятия органической формы. От неизбежности герменевтического круга они скрываются за понятием литературного текста как объективной «вещи». Здесь понятие формы амбивалентно — оно и творец и разрушитель органических тотальностей, оно выполняет такую же роль, как время в статье Лукача. Конечное прозрение здесь снова перечеркивает ведущие к нему посылки и на долю читателя приходятся те выводы, которые недоступны критикам, если они последовательны в достижении собственной цели.
Подобные же сложности возникают и тогда, когда специфичность литературного языка не рассматривается ни с точки зрения истории, как у Лукача, ни с точки зрения формы, как в американской новой критике, но опирается на субъективность автора или взаимоотношения автора и читателя. Двойственность категории «я» вынуждает критика косвенным образом отказаться от своих программных утверждений и принять тайну этого парадоксального движения в качестве своего основного прозрения. Отчетливо сознавая неустойчивость и фрагментарность «я» в его выдвинутости в мир, Бинсвангер пытается определить власть произведения искусства как сублимацию, способную привести, вопреки постоянно угрожающим опасностям, к уравновешенной структуре множественных напряжений и сил внутри самого «я». Произведение искусства становится такого рода сущим, в котором эмпирический опыт и его сублимация сосуществуют при посредничестве «я», обладающего достаточной гибкостью, чтобы охватить их обоих. В конечном итоге Бин- свангер указывает на разрыв, отделяющий художника как эмпирического субъекта от вымышленного «я». Вымышленное «я» существует в произведении, но достижимо оно только ценой разума. Так утверждение «я» оборачивается его исчезновением.
Записанное на более серьезном уровне осознания, исчезновение «я» становится основной темой критической работы Бланшо. Несмотря на то, что невозможно зафиксировать присутствие «я» таким образом, чтобы в записи оно не оказалось отсутствующим, тематизирующее утверждение отсутствия вновь устанавливает форму самости (selfhood), хотя и в предельно редуктивной и специализированной форме самопрочтения. И если акт чтения, возможный или действительный, выступает как конститутивный элемент литературного языка, то тем самым предполагается конфронтация между текстом и другим сущим, существующим до создания текста, которое, несмотря на всю свою безличность и анонимность, все же должно обозначаться посредством метафор самости. Говоря об этом всеобщем, но исключительно литературном субъекте, Пуле признает за ним способность порождать собственный временной и пространственный мир. И все же оказывается, что то, о чем здесь говорится как о начале, всегда зависимо от существования некоего сущего, недостижимого для «я», но доступного языку, разрушающему возможность начала.
Все эти критики странным образом обречены говорить нечто совершенно отличное от того, что хотели бы сказать. Их критические убеждения — пророчества Лукача, вера Пуле в могущество изначального cogito, провозглашение Бланшо мета-маллармеанской имперсональности — опровергается их собственными результатами. В итоге происходит глубокое, но трудное прозрение природы литературного языка. Представляется, однако, что такое прозрение достижимо лишь потому, что критики охвачены особой слепотой: их язык способен видеть исключительно в силу того, что их метод нечувствителен к этому видению. Прозрение существует только для читателя, занимающего особую позицию наблюдения слепоты как полноправного феномена — вопрос о его собственной слепоте по определению не может быть поставлен — и только так способного отличать высказывание от смысла. Он должен отказаться от явных результатов того видения, которое способно пробиться к свету лишь потому, что, будучи уже слепо, может не бояться силы этого света. Но такое видение не способно внятно сообщить об увиденном. Писать критически о критиках — значит отображать парадоксальную эффективность слепого зрения, которое должно очиститься невольно вызванным им прозрением.
Сразу возникает несколько вопросов. Связана ли слепота этих критиков с самим актом письма и, если это так, какой именно аспект литературного языка вызывает слепоту в том, кто вступает с ним в соприкосновение? Или же запутанности этого процесса в значительной мере можно избежать, обратившись не к критикам, а к литературным текстам, либо к другим, не столь субъективным критикам? Быть может, мы имеем дело с псевдосложностью, являющейся следствием заблуждения небольшой группы современных критиков?
В этой главе мы попытаемся дать примерный ответ на первый вопрос. Что касается остальных, то они затрагивают проблему, возникавшую на протяжении всей истории литературной критики: проблему скрытой оппозиции между тем, что теперь часто называют внутренней и внешней критикой. Все критики здесь сходятся в том, что есть определенная доля имманентности в их подходе. Для всех них обращение к литературному языку предполагает какую-то деятельность сознания, которая, сколько бы вопросов сама по себе ни вызывала, до некоторой степени определяется исключительно самим языком. Все попытки достичь какой-то степени обобщенности, заходящие столь далеко, что о них уже пора писать особо, касаются не отдельных произведений или авторов, но литературы как таковой. И все же всякая подобная всеобщность покоится на изначальном акте чтения. Еще до всех обобщений относительно природы литературы должны быть прочитаны сами литературные тексты, и возможность чтения никогда не разумеется сама собою. Чтение есть акт понимания, который нельзя ни пронаблюдать, ни предписать или верифицировать. Литературный текст не есть феноменальное событие, которое можно наделить любой формой положительного бытия, будь то природный факт или мыслительное действие. Он не восходит к трансцендентальному восприятию, интуиции или знанию, но требует исключительно понимания, которое должно оставаться имманентным, поскольку ставит проблему своей интел- лигибильности в своих собственных терминах. Подобное поле имманентности является необходимой частью всякого критического дискурса. Критика есть метафора акта чтения, и этот акт неисчерпаем.