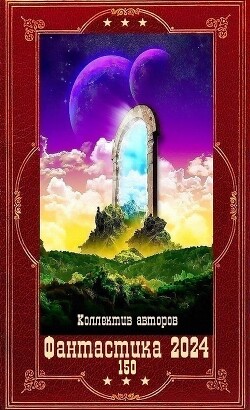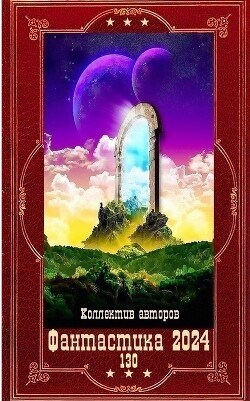Пол и секуляризм (СИ) - Скотт Джоан Уоллак
ее несвобода создавала его свободу, его положение господина в частной сфере позволяло ему участвовать в широкой публичной сфере равных… Таким образом, главное отношение, которое определяло гражданина как такового, было сексуальным отношением господства, ибо … семья была продуктом определенных публично и консумируемых в частном порядке сексуальных отношений. Гражданское и сексуальное взаимно конституировали друг друга [244].
Это взаимное конституирование стало «архетипическим», заключает она:
к концу XIX столетия и после оно по-прежнему пронизывало как официальные и неофициальные институты и идеологии (либеральную, консервативную, даже социалистическую и национал-социалистическую), так и повседневные ожидания людей, живших при новом порядке [245].
Американская и Французская революции прояснили эти изменения — в Европе это часто происходило благодаря Наполеоновскому кодексу, который оставался в силе десятилетиями и получил очень широкое распространение.
Последствие революции, — пишут Женевьев Фрэсс и Мишель Перро, — более выраженное разделение между публичным и частным пространствами: было проведено тщательное различие между частной и общественной жизнью, между гражданским и политическим обществом. Наконец, именно посредством этого различия женщины были исключены из политики и попали в зависимость в гражданском обществе [246].
Политический теоретик и феминистка Кэрол Пейтман утверждала в 1988 году, что общественный договор, считающийся фундаментом новых республик, был по сути дела сексуальным договором.
Индивиды-граждане образуют братство, потому что связаны узами в качестве мужчин. Они разделяют интерес к соблюдению изначального договора, который узаконивал права мужчин и позволял им получать материальные и психологические выгоды от подчинения женщин… Гражданская сфера получает свое универсальное значение в результате противопоставления частной сфере естественного подчинения и женских способностей. «Гражданский индивид» конституирован в рамках полового разделения общественной жизни, установленного первоначальным договором [247].
Пейтман отмечает характер исключения, который социальный договор носит в общем мире договоров: он понимается не как результат соглашения о сотрудничестве между равными сторонами, наоборот, этот договор — подтверждением отношений неравенства. Женщины, следуя велению природы, добровольно соглашаются подчиняться.
Женщина соглашается повиноваться своему мужу, когда становится женой; разве можно найти публичное подтверждение того, что мужчины — сексуальные господа, пользующиеся законными правами мужского пола в своей частной жизни, лучше этого? [248]
В своем рассказе о путешествии в Америку Алексис де Токвиль ссылается на это якобы естественное подчинение в главе под названием «Как американцы понимают равенство мужчины и женщины». Он приводит пример того, как противоречие между требованием равенства полов, с одной стороны, и иерархическое и неравное разделение труда между полами, с другой, разрешалось через либеральное понятие индивидуального согласия. Разделение труда, говорит он, следует «основному принципу политической экономии, который в наши дни господствует в промышленности» [249]. «Демократическое равенство» между мужчинами и женщинами требовало приверженности «естественному» разделению труда между ними. «Превосходство» американских женщин, утверждает он, было основано на их добровольном и мудром подчинении авторитету мужа. Асимметричная взаимодополняемость была правилом.
Они полагают, что всякое объединение, чтобы быть эффективным, должно иметь своего руководителя и что главой супружеского союза, естественно, является мужчина. Поэтому они не отказывают ему в праве руководить своей спутницей и верят, что в маленьком сообществе, состоящем из мужа и жены, так же как и в большом обществе, представляющем собой государственное образование, демократия стремится к тому, чтобы поставить под контроль и узаконить необходимую для управления власть, а не к уничтожению всякой власти [250].
Согласно комментариям Токвиля, в дискурсе и практике современных западных секулярных стран оправдание отказа женщинам в гражданских правах основывалось на брачных отношениях, предельном воплощении различия публичного и частного, которое в свою очередь покоилось на естественности различия полов и подтверждало ее. Поскольку предполагалось, что предназначение любой женщины — брак, не проводилось различия между женщинами, которые по собственной воле или в силу стечения обстоятельств не выходили замуж, и женщинами, которые становились женами. Устранение религии как основания для политики требовало нового институционального основания. Как писал один комментатор, «брак связывает гражданина с государством подобно тому, как обет безбрачия связывает духовное лицо с церковью» [251]. Брак снабжал государство детьми, от которых зависело будущее, и подтверждал принадлежность к мужскому полу, необходимую для отправления политической власти. Он также олицетворял природную иерархию, на которой могли основываться другие социальные различия.
Образ семьи стал символизировать иерархию внутри единства, — пишет Анн Макклинток, — потому что подчинение женщины мужчине и ребенка взрослому может быть представлено в категориях семьи, чтобы гарантировать социальное различие как категорию природы [252].
Именно это часто происходило в дискурсе рабовладения и в колониальном дискурсе, где «рабы» или «туземцы» представлялись субъектами, напоминающими детей, одновременно зависимых и нуждающихся во власти, которую обеспечивали их хозяева.
Истории об истоках
Отношение брака к государству было центральным для переосмысления основ секулярного политического правления. Для Локка, Руссо и других альтернатива абсолютизму покоилась на согласии тех, кто подчинялся патриархальному правлению, сыновей, подчиняющихся отцу, жен, подчиняющихся мужьям. Локк воображал, что «для детей было легко и почти естественно посредством молчаливого согласия, которого трудно было избежать, уступить власть и правление отцу» [253]. Руссо считал семью первым шагом к выходу из естественного состояния: «Первое различие было установлено в образе жизни двух полов, которые до того были одним» [254]. Происхождение секулярной политики, самая ее возможность, основывалась на моногамии. В категориях Пейтман, сексуальный договор делал возможным договор общественный.
В «Тотеме и табу» Фрейд предложил теорию, объясняющую истории о происхождении с точки зрения психоанализа. В его интерпретации (которую я считаю крайне полезной для осмысления этих вопросов гендера и политики) власть первородного отца основана на том, что он монополизировал все удовольствия; более слабые мужчины в итоге убивают (и, по версии Фрейда, съедают) его, дабы получить доступ к тому, в чем им постоянно отказывали. Поглощая отцовскую фигуру, мужчины задним числом становятся братьями. Фрейд говорит, что так они «осуществили идентификацию с ним, каждый присвоил себе часть его силы» [255]. Вступление в права взрослого требовало сексуальной инициации, которую отец им запрещал: не было подходящей женщины, которая бы стала их собственной. Братья устанавливали запрет на инцест, чтобы эта женщина не оказалась матерью или сестрой, которые были доступны для соблазнения первородному отцу. Таким образом, власть сыновей пришла на смену абсолютизму отца, своеобразная форма братства свергала власть царя — и так родилась современность. В категориях Фрейда, «идеальный отец» пришел на смену первородному отцу; он (или они — сыновья действовали коллективно, чтобы достичь этого идеала) был тем, чьи действия могли защитить общество от эксцессов.