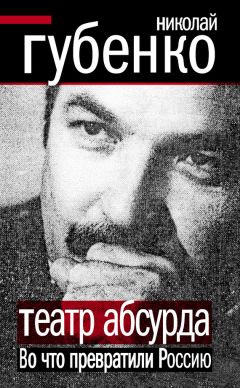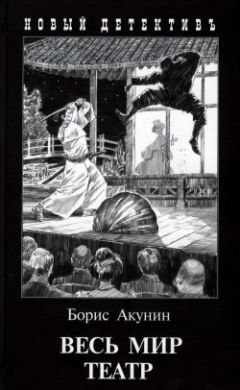Мартин Эсслин - Театр абсурда
Ионеско протестовал против обвинения в антиреализме, отрицал, что он настаивает на невозможности вербального общения. «Сам факт, что пьеса написана и поставлена, совершенно несовместим с подобной точкой зрения. Я считаю, что достигнуть понимания трудно, но не невозможно»3. После издевательств над Сартром (как автором политических мелодрам), Осборном, Миллером, Брехтом и прочими «бульварными писателями левого крыла конформизма, столь же жалкого, как и правое», Ионеско высказывает убеждение, что общество сформировало барьер между людьми, и аутентичное человеческое сообщество шире, чем общество. «Общество не может избавить человека от печали, политическая система — освободить от страданий, страха смерти и жажды абсолюта; условия жизни контролируют социальное положение, а не наоборот». Поэтому необходимо разрушить язык, который есть «ничто, клише, пустые формулы и лозунги». Поэтому и идеологии с их рутинным языком должны постоянно изменяться, а «их закоснелый язык… неумолимо распадаться на части, чтобы под обломками обрести животворную силу».
«Чтобы определить фундаментальную проблему, общую для всего человечества, я должен спросить себя, в чём моя проблема, в чём выражается мой непреодолимый страх. Тогда, скажу без преувеличения, я определю проблемы и страхи каждого. Это верный путь пробиться в моё отчаяние, в наше отчаяние, которые я пытаюсь извлечь на свет дня…. Творчество есть выражение некоммуникабельной реальности, попытка её понять, и она иногда удаётся. В этом заключается парадокс и истина»4.
Статья Ионеско вызвала широкий отклик — явный признак, что оба, Ионеско и Тайнен, задели животрепещущие проблемы. Одни поздравляли Ионеско с тем, что он сделал «блестящее опровержение современной теории “социального реализма”», добавляя, что если бы мистер Ионеско смог привнести ясность и здравый смысл в свои пьесы, он стал бы великим драматургом! (Исследователь и критик современной немецкой драмы Г.Ф. Гармент.) Другие соглашались с Кеннетом Тайненом в том, что отказ от политики сам по себе является политической идеологией. (Художественный критик-марксист Джон Бергер.) Артистический директор Royal Court Theatre Джордж Девин поддержал Ионеско, но настаивал на том, что Артур Миллер, Джон Осборн и Брехт ставят не только социальные цели: «Каркас их пьес сознательно социальный, но суть человеческая». Филип Тойнби заявил, что Ионеско поверхностен, и в любом случае, Миллер как драматург значительнее.
В том же выпуске Observer Тайнен бросил Ионеско вызов. Его аргументы вращались вокруг утверждения Ионеско о том, что художественное высказывание может быть независимо и в известном смысле выше идеологии и необходимости в «реальном мире». «Искусство и идеология часто воздействуют друг на друга, но очевидно, что они произрастают из общего источника. Они рождаются из человеческого опыта, чтобы объяснить человечеству его суть… Они братья, а не ребёнок и родитель». Тайнен доказывал, что Ионеско делает акцент на самоанализе, исследовании собственных страхов, открывая дверь субъективизму, с позиций которого якобы происходит объективная оценка, а потому критический разбор таких пьес невозможен. «Допускает это мистер Ионеско или нет, но каждая пьеса, заслуживающая серьёзного внимания, — высказывание. Оно адресовано от первого лица единственного числа первому лицу множественного числа, и последние имеют право не соглашаться. …Если человек говорит мне нечто, а я не считаю это правдой, запрещено ли мне сделать больше, чем поздравить с великолепием его лжи?»5
Полемика продолжилась в следующем выпуске Observer. Разные мнения высказали Орсон Уэллс (в основном о критике и критических эталонах), Линдсей Андерсон, молодой драматург Кит Джонстоун и другие. Однако второй ответный удар со стороны Ионеско не был опубликован в газете. Эта статья появилась позже в Cahiers des Saisons6 и в книге его эссе. В ней Ионеско вскрывает суть полемики — проблему формы и содержания.
«Мистер Тайнен упрекает меня в том, что я любыми способами извращаю “объективную реальность” (однако что такое объективная реальность? Это уже другой вопрос.) ради способа её выражения. …Иными словами, меня обвиняют в формализме». Отстаивая свою точку зрения, Ионеско говорит, что история искусства, литературы есть история способов выражения, «Подходить к проблеме литературы через изучение способов её выражения (на мой взгляд, это и следует делать критикам), означает приблизиться к их основе, понять их суть». Таким образом, критика закоснелых форм языка, при помощи которого пытаются оживить мёртвые формы, вырастает из глубины столь же объективной реальности, как и социальный реализм. «Обновить язык — значит обновить концепцию, взгляд на мир. Революция — это изменение ментальности». Поскольку всякое истинно художественное выражение — попытка сказать новое новыми способами, оно не может ограничиться только подтверждением существующих идеологий. Форма и структура должны подчиняться внутренним законам логики, и связи так же важны, как и концептуальное содержание. «Я не вижу противоречия между творческой и познавательной энергией, потому что, возможно, структуры мысли отражают универсальные структуры».
Храм или собор, хотя они не репрезентативны, открывают фундаментальные законы структуры, и их ценность как произведений искусства больше, чем их утилитарное назначение. Таким образом, формальный эксперимент в искусстве превращается в исследование действительности, более живой и полезной (потому что эксперимент расширяет понимание реального мира), чем поверхностные произведения, которые мгновенно понимают массы. В начале XX века наблюдался великий подъём такого творческого исследования, в частности, в музыке и живописи, трансформировавший наше понимание мира. «В литературе и ещё более в театре это движение закончилось, кажется, в 1925 году. Мне хотелось бы надеяться, что явится некий скромный мастер, с которого вновь начнётся это движение. Я, например, пытался облечь в конкретную форму страх… моих персонажей с помощью предметов; чтобы время и место пьесы говорили сами за себя; перевести действие в визуальный ряд; воплотить зримые образы страха, раскаяния, сострадания, отчуждения; играть словами. …Так я пытался усилить язык театра. …Надо ли за это порицать?»
Ионеско приводит доводы в пользу формального эксперимента, который, по его мнению, более соотносится с действительностью, чем социальный реализм, как это показала выставка советской живописи, которую посетил Ионеско. Скучные репрезентативные картины советских художников приветствовались местными капиталистами-филистимлянами, и более того, «художники социалистического реализма — формалисты и академики именно потому, что они обращают недостаточно внимания на форму выражения смысла и не способны передать глубину». С другой стороны, в живописи такого художника, как Массон, правда и жизнь: «Массон — мастер, ему нет дела до реальности, он не стремится овладеть ею, сосредотачиваясь только на акте живописи, и именно по этой причине реальность с её трагическими элементами беспрепятственно самораскрывается. То, что мистер Тайнен называет антиреализмом, превращается в реальность; некоммуникабельное становится коммуникативным, и в его живописи за явным отрицанием всего человеческого, конкретного и духовного всегда скрывается живое сердце. Антиформалисты же продемонстрировали истощённые формы, пустые и мёртвые. Абсолютное отсутствие чувств»7.
Полемика Ионеско и Тайнена, блестяще проведённая обеими сторонами, показала, что Эжен Ионеско никоим образом не автор всего лишь весёлых, абсурдистских пьес, как его часто представляют в критике, но серьёзный художник огромной интеллектуальной силы, посвятивший себя сложному исследованию реальных человеческих ситуаций, осознающий свои задачи.
Ионеско родился 26 ноября 1912 года в Румынии, в Слатине. Его мать — француженка, урождённая Тереза Икар. Вскоре после его рождения родители перебрались в Париж, и его первым языком стал французский. В тринадцать лет ему пришлось учить румынский, так как родители вернулись в Румынию. Его первые воспоминания и впечатления о Париже: «Мы жили на площади Вожирар. Как это было давно! Помню плохо освещённые улицы осенними и зимними вечерами. Мама несёт меня на руках; я боюсь, это обычный детский страх; мы вышли купить еды на ужин. По тротуарам движутся тёмные силуэты, люди спешат — фантомные, галлюцинирующие тени. Когда в моей памяти возникает образ этой улицы, и я думаю, что почти все эти люди умерли, всё вокруг кажется тенью. Всё недолговечно. От страха у меня кружится голова…»8
Эфемерность, страх — и театр: «… мама не могла оторвать меня от представления Панча и Джуди в Люксембургском саду. Зачарованный, я мог стоять там целыми днями. Панч и Джуди держали меня, ошеломляя зрелищем кукол, которые говорили, двигались, колотили друг друга дубинками. Это был спектакль самой жизни, необычной, неправдоподобной, но правдивее правды, в крайне упрощенной и карикатурной форме подчёркивая её гротеск и грубость…»9