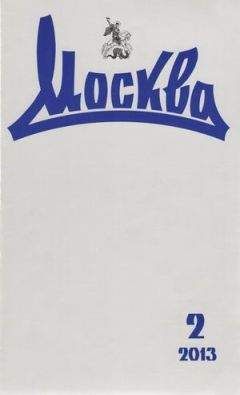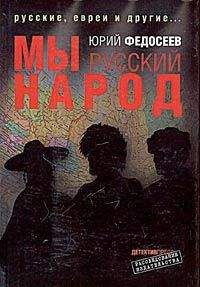Анна Степанова - «Закат Европы» Освальда Шпенглера и литературный процесс 1920–1930-х гг. Поэтология фаустовской культуры
Ответ автора на этот вопрос можно «прочитать» в некоторых заголовках к тем актам трагедии, где речь идет о странствиях Фауста в обществе Мефистофеля. Если оставить одни заголовки, убрав событийный ряд, увидим следующее: «Погреб Ауэрбаха (кабачок) в Лейпциге», «Кухня ведьмы», «Вальпургиева ночь», «Золотая свадьба Оберона и Титании», «Маскарад», «Сад для гуляния», «Классическая Вальпургиева ночь» и т. п. Представляется, что в вихре человеческих страстей, поглотившем Фауста, присутствует некий карнавальный момент, в котором звучит мотив проигранной жизни – не в смысле проигранной Мефистофелю, а прожитой «играючи». Однако мотив игры в трагедии Гете, на наш взгляд, требует отдельного, более глубокого исследования, что в данном случае не является нашей задачей.
Оптимизм трагедии Гете сменяется глубоким пессимизмом в поэме «Фауст» Николауса Ленау («Faust», 1838 г.), где проблема вечного познания и вечного дерзания человеческой индивидуальности утрачивает свой высокий смысл перед конечностью существования. Стремление Фауста проникнуть в божественную тайну жизни и смерти служит источником происходящих в душе героя противоречий:
Ich kann mich nicht vom heißen Wunsche trennen,
Den schöpferischen Urgeist zu erkennen,
Mein innerst Wesen ist darauf gestellt,
In meiner ewigen Wurzel mich zu fassen;
Doch ists versagt, und Sehnsucht wird zum Hassen,
Daß mich die Endlichkeit gefangen hält.
Furchtbarer Zwiespalt ists und tödlich bitter,
Wenn innen tobt von Fragen ein Gewitter,
Und außen antwortlose Totenstille
Und ein verweigernd ewig starrer Wille [51, c. 524].
Неудержимо, страстно жажду я
Познать тот дух, которым создана
Вселенная. Моей души призванье —
В себе самом всю вечность отыскать,
Но пред конечностью существованья
Тоска готова ненавистью стать.
О, горько и смертельно раздвоенье,
Когда внутри вопросов бурный рой,
Снаружи же – одно оцепененье,
Секрет упрямой воли вековой [52].
Традиционный для средневековой легенды и трагедии К. Марло конфликт между стремлением к свободе познания и религиозными догмами в поэме Ленау трансформируется в конфликт между знанием и верой, порождающий цепь противоречий, характеризующих состояние героя в отношениях между Богом и природой, желанием подняться над законами мироздания и осознанием собственной несостоятельности, стремлением к абсолютной свободе и тотальной предопределенностью зловещей судьбы.
Стремление Фауста разгадать тайну жизни у Ленау связано с пересмотром традиционного для романтизма мотива постижения Бога, мыслимого как прорыв в трансцендентное. Традиционный образ Бога в поэме Ленау разрушается: автор создает образ божества, бесконечно далекого от мира, равнодушного к человеческим страданиям, – некоей наглухо закрытой, непознаваемой субстанции, «вещи в себе». Бог никак не проявляет себя в созданном им мире и, в отличие от предыдущих трактовок фаустовского сюжета, не является действующим лицом в повествовании. Закрытость и непознаваемость Бога, по замыслу автора, исключает для Фауста возможность абсолютного познания путем прорыва в трансцендентное. Тем самым в поэме акцентируется мысль о том, что цель Фауста – постичь истину и тайну жизни – заведомо недостижима, абсолютное знание – недоступно.
В этой связи в трактовке Н. Ленау образ Мефистофеля выполняет функцию некоего «нравственного катализатора», который, разоблачая равнодушие Создателя к миру и людям, активизирует в душе Фауста богоборческие интенции:
Dein Schöpfer ist dein Feind, gesteh dirs keck,
Weil grausam er in diese Nacht dich schuf,
Und weil er deinen bangen Hülferuf
Verhöhnt in seinem heimlichen Versteck.
Du mußt, soll sich dein Feind dir offenbaren,
Einbrechen plötzlich als ein kühner
Frager In sein geheimnisvoll verschanztes Lager,
Mußt angriffsweise gegen ihn verfahren.
Willst du in deines Feinds Entwürfe dringen,
So mußt du ihn durch tapfern Angriff zwingen,
Daß er die stumme, starre Stellung bricht
Und, aufgereizt, sich endlich rührt und spricht (521).
Творец твой – враг тебе. Без дальних слов
Сознай, что он – источник всех мучений.
Сознай, что он на робкий зов молчит
И насмехается, от взоров скрыт.
Коль хочешь ты, чтоб враг тебе открылся,
Вопросы ставь смелей, ворвись к нему,
Ворвись в его таинственную тьму,
Скажи, что ты открыто возмутился.
Желаешь ли постичь ты вражьи планы?
Ну, нападай же, и его принудь
Молчание прервать, из-под охраны
Своей уйти и молвить что-нибудь [52].
В отличие от предыдущих трактовок фаустовской темы, предполагающих противостояние божественного и дьявольского начал, в поэме Ленау Мефистофель – единственный представитель потустороннего мира. Мотивы божественного равнодушия и невмешательства в судьбы мира, богооставленности человека провоцируют двойственность восприятия образа Мефистофеля. Как справедливо отмечает И. Румянцева, «в поэме Ленау деятельным оказывается только зло, поскольку Бог себя никак не проявляет <…> Именно его невмешательство в жизнь сотворенного им мира рассматривается как зло. В таких условиях дьявол – единственная деятельная сила. Он преобразует свою традиционную функцию отрицания и разрушения в функцию созидания – так, как он его понимает, <…> он созидает собственный мир» [53, с. 16].
В процессе осмысления Николаусом Ленау проблемы познания терпит крах и концепция индивидуализма. Желание Фауста постичь тайну жизни обусловлено, скорее, не свойственной ученому жаждой знания как такового, а гордыней – невозможностью для героя признать себя творением Божиим и стремлением к всеобъемлющему самоутверждению и самовозвеличиванию собственного «Я» как отдельного мира, которому в мироздании должно быть определено особое место:
Ich will mich immer als mich selber fühlen;
Nicht soll aus meinem festen Mauerring
Die heilige Meereswoge fort mich spülen
Wie Tau, der leicht am Ufergrase hing…
Behaupten will ich fest mein starres Ich,
Mir selbst genug und unerschütterlich,
Niemandem hörig mehr und untertan,
Verfolg ich in mich einwärts meine Bahn (525,598)
Хочу я быть всегда самим собою,
Я лучше примирюсь с моей тюрьмою,
Чем в море Божьем сгину как росинка,
Дрожавшая у брега на былинке…
Хочу лишь утверждать лишь Я одно.
Всегда довлеть себе должно оно.
Я никому не подчинен отныне,
Свой путь найду я в мировой пустыне [52].
Таким образом, как справедливо отмечает И. Румянцева, конфликт ученого как следствие его стремления постичь законы мироздания Ленау превращает в конфликт отпавшей от Бога личности, не вписавшейся в картину мира [53, с. 12].
Обостренный до предела индивидуализм, являющий ключевую характеристику образа Фауста, активизирует в душе героя богоборческое начало: осознавши тщетность своих притязаний как ученого («И жребий обезьяний и пустой, / Ученого я жребий проклинаю!»), Фауст отрекается от Бога и обращает свои вопросы к природе. Но и природа не дает надежды познанию, пробуждая в душе героя состояние, «когда тоска готова ненавистью стать». В отчаянии Фауст объявляет Богу войну, заведомо обрекая себя на смерть:
Wenn Er der Angeschaute ist Und
Aug und Licht zu gleicher Frist,
So sieht doch nur Er selber sich
In meinem Haus, nicht aber ich.
Verworrne Demut ist das Beten;
Ich will Ihm gegenübertreten….
Bin ich unsterblich oder bin ichs nicht?
Bin ichs, so will ich einst aus meinem Ringe
Erobernd in die Welt die Arme breiten
Und für mein Reich mit allen Mächten streiten,
Bis ich die Götterkron aufs Haupt mir schwinge! (524, 598).
Коль бог – объект для созерцанья,
И вместе свет, и вместе глаз,
То существует в мирозданьи
Лишь для себя, а не для нас.
Смиренье глупое – молитва,
Л я хочу вступить с ним в битву…
Бессмертен я, иль смертен гений мой,
Коль смерти нет мне, то над всей вселенной
Простру я руки, буду воевать
За мир с богами, с мощью несравненной
Корону мира буду добывать [52].
В трактовке Ленау, таким образом, индивидуализм являет разрушительное начало, приведшее Фауста к отрицанию Бога, природы и собственной человеческой сущности, – «вечное познание трансформируется в вечное отрицание» [53, с. 12]:
Das leuchtet ein! es gilt, daß ich die Seele
Aus Christus und Natur heraus mir schäle.
Ob ich mit ihm, mit ihr zusammenhange,
Umkreist mich unentrinnbar eine Schlange.
Ist Christus Gott, und folg ich seinem Schritt,
So bin ich, sei es auch auf Himmelspfaden,
Der Schuh nur, den sein Fuß erfüllt und tritt,
Ein niederes Gefäß nur seiner Gnaden.
Ists die Natur – bin ich ein Durchgang nur,
Den sie genommen fürs Gesamtgeschlecht,
Bin ohne Eigenzweck, Bestand und Recht,
Und bald bin ich verschwunden ohne Spur (597).
Вот это так. Я должен от природы
И от Христа уйти путем свободы.
С Христом, с природой ли всегда меня
Кольцом железным обовьет змея.
Задумаю ль идти путями бога,
Хоть пусть и в рай ведет его дорога,
Я буду только глупым башмаком.
Нагой, Христом наполнен и влеком, —
Сосуд лишь благодати, а природа
Меня употребит лишь для прохода,
Момент ничтожный в жизни видовой,
Без цели собственной, без смысла, права.
Мгновения пройдут. И образ мой
Исчезнет без следа, как глупая забава [52].
Тотальный нигилизм как метафора фаустовского сознания служит причиной неизбежной физической и духовной гибели героя, который не может быть ни оправдан, ни спасен, – в трактовке Ленау Фауст обречен изначально. Единственную возможность обретения абсолютной свободы и спасения Фауст видит в самоубийстве, но и эту иллюзию развенчивает Мефистофель в своем заключительном монологе: