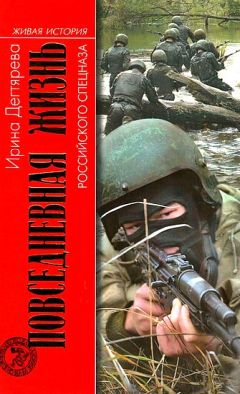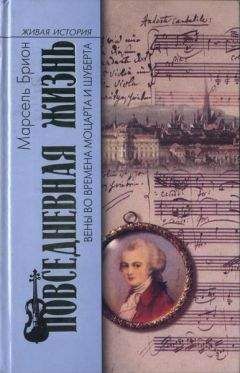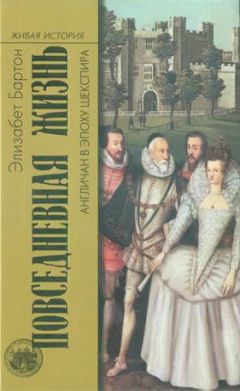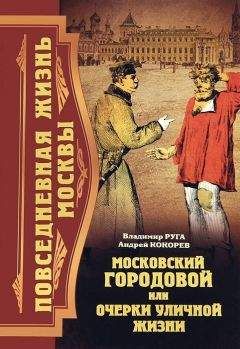Джулия Сисс - Повседневная жизнь греческих богов
Ведет ли его действительно божественная сила, как Париса, или же он сам — как Агамемнон — ответствен за свои деяния, герой Гомера рассматривает богов как источник аффектов, которые вторгаются в его жизнь и управляют ею. Случай с Агамемноном особенно многозначителен, так как единственно приемлемым объяснением его гнева становится мало-помалу божественное провидение. Ахиллес тоже в конце концов начнет думать, что «разум отнял у него Олимпиец» (Илиада, IX, 377). Движимая страстной ревностью, природа ярости и любви может оправдать в наших глазах идею внешней силы, слияние с которой выглядит странным. Но в мире эпопеи ни одна из способностей человеческого субъекта не защищена от манипуляций. Особенно это касается разума и воли. Есть один персонаж, который, похоже, верит этому и который хотел бы в этом убедить своего сына. Это Пелей, отец Ахиллеса. В день отплытия в Трою он напомнил молодому воину, что победу дарят Гера и Афина, если они того захотят. Зато владение страстями — этим вместилищем огромной эмоциональности — приходит само по себе. Есть разумное разделение, которое дает место заботе о самом себе и самоконтроле; но есть и иллюзорное разделение, так как именно Ахиллес оказывается неспособным преодолеть свою ярость, и Афина должна его успокаивать. И если существует импульсивный и восприимчивый герой, то это прежде всего Ахиллес. Он замыкается в своей обиде из-за потери Бризеиды, своей пленницы, в которую, как ему думается, он влюблен. И только тогда, когда он узнает о гибели своего лучшего друга, он решается выйти из этого оцепенения. С начала до конца сын Пелея действует страстно, разрываясь между собственными желаниями и пожеланиями богов.
Благоразумны ли боги?
Не менее иллюзорно между тем и другое разделение, о котором дает понять вмешательство Афины: людям — неоспоримые и необходимые желания, богам — педагогику и разум. В этом дуэте, имеющем место в начале поэмы, можно попытаться усмотреть условную картину разрыва и поддержания взаимозависимости между смертными и олимпийцами и тем самым архаичный портрет человеческого субъекта, несуществующего по той причине, что он разрывается между страстями и богами, следовательно, дважды предопределен иными силами, не самостоятелен. Человек у Гомера видит себя разделенным на части, утверждает Снелл, как в том, что касается тела, так и в антагонизме тех сил, которые борются внутри него, словно в пустом месте, за принятие решений: какие начать действия, какие произнести слов а — и эти слова, и эти действия нельзя рассматривать как «его» собственные. Действительно, все поведение Ахиллеса говорит о его неспособности управлять тем, что его затрагивает, о его бессилии защищать себя от гнева и в то же время ослушаться бога. С отъездом Бризеиды Ахиллес впадает в меланхолию, в скорбь, от которых он освобождается только разразившись рыданиями. Герой плачет. Он поворачивается спиной к друзьям, смотрит на море, рыдая точно так, как рыдал Одиссей, когда ностальгия по дому становилась нестерпимой, несмотря на любовь к нему Калипсо. Свирепые глаза, некогда способные как громом поразить врага своим холодным блеском, теперь полны слез. Герой взывает к своей матери: «И почтенная мать услыхала, сидя в морской глубине с престарелым отцом своим рядом. Быстро из моря седого богиня, как тучка, возникла, села близ льющего слезы, погладила нежной рукою и, называя по имени, слово такое сказала: "Сын мой, что плачешь?"» (Илиада, I, 357—364).
Известно, что Платон, при всем уважении к Гомеру, считал неуместными сцены, когда мужественные воины не могут сдержать себя до такой степени, что заливаются слезами. Он настоятельно рекомендовал вымарывать все места, где античные герои подают плохой пример молодым солдатам его времени, воинам, читающим «Илиаду». Но ведь в эпическое время проявление чувств, огромный всплеск эмоций считались главными чертами героической натуры: чувствительности — конечно, чрезмерной в глазах философа-наставника, — которая соответствует величию былых времен. Все эти персонажи, необыкновенные по своей красоте и храбрости, силе и выносливости, одержимы также и страстями. Скальпель философа не препарировал еще душу на три части, а именно на вожделение, вспыльчивость, интеллектуальное и моральное сознание. Интеллект еще не стал всадником, который укрощает две другие составляющие души, как лошадей, вставших на дыбы. Герои не в состоянии управлять своей душой, которая представляет собой беспорядочное сочетание желаний и добродетели.
А боги уже тут, дабы помочь этим большим, жаждущим детям не поддаваться бурным эмоциям, помочь им противостоять сильным влечениям, которые ими овладевают. У Ахиллеса гнев сменяется отчаянием. Но едва Афина сумела сдержать Ахиллеса, как он уже нуждается в Фетиде — как в матери-утешительнице и как в богине, находящейся в добрых отношениях с Зевсом. Точно так же позднее злоба против Агамемнона уступит место ненависти к убийцам его самого дорогого друга. И наш герой, словно оторвавшийся от дерева листок, будет витать от страсти к страсти, от бога к богу.
Все это правильно, но боги — не все и не всегда — играют роль, подобную роли Афины в определенный момент военных действий. Наоборот, необходимо сказать, что этот эпизод совсем не показателен, а своеобразен и обманчив. Своеобразен в разнообразии возможных ситуаций встреч человека с богом; обманчив, если его возводить в пример. Во-первых, дело заключается в том, что боги действуют неодинаково. В сравнении друг с другом — каждый из них имеет свой стиль, свой способ действия, каждый при своем обстоятельстве, так как, несмотря на свой стиль, бог не всегда непременно остается самим собой. И эта изменчивость является одной из сторон повседневного времяпрепровождения, то есть эфемерной жизни богов: для них точно так же, как и для смертных, один день не похож на другой. Новый день — новые заботы (эти заботы так часто беспокоят людей), и не только заботы, но и новое настроение.
Ибо как и у людей — и это вторая причина, почему встреча Афины и Ахиллеса не является показательной, — у богов есть настроения: желание, боль, радость, гнев, то есть возбуждение, слезы, смех, меланхолия. Эти «блаженные» вовсе не пассивны и не бесстрастны: они меняются и реагируют на все, что их трогает в смысле чувствительности, которая не является их типичной чертой. Жизнь олимпийцев вдохновляется и направляется всеми эмоциями: ясно, что Ата — богиня, вызывающая помутнение рассудка, мешающая видеть то, что ясно, как божий день, влекущая нас к ошибкам и заблуждениям, — эта богиня насылает подобные беды исключительно на людей. Ей нет больше места на Олимпе. Но все это не имеет отношения к непогрешимости богов как таковых. Наоборот. Если Ата не может больше появляться во владениях богов, то только потому, что Зевс ее оттуда изгнал, придя в ярость от того, что стал жертвой Аты в тот день, когда сердце коварной богини вонзило в его грудь хвастливые слова, погубившие Геракла, сына Громовержца.
В-третьих, если Афина является к Ахиллесу, чтобы его урезонить, то многие боги — а таковых не так уж и мало — как, например, Дионис, Гера или Зевс, просто насылают на людей безумие и смертоносное неистовство.
Итак, Фетида оставляет свой подводный дом и всплывает из морской пучины. На берегу между матерью и сыном, богиней и героем, происходит задушевный разговор. Богиня-мать ласкает своего сына, она хочет, чтобы ее взрослый мальчик заговорил с ней, рассказал ей обо всем произошедшем. Конечно, богиня-мать уже знает, что сделало несчастным ее сына, но она побуждает его рассказать все, все с самого начала. Ахиллес покорно изливает свою душу: он вновь повторяет историю с оскорблением, нанесенным Аполлону, настаивает на своей роли, которую он сыграл, защищая права бога от грубого Агамемнона: «Первый советовал я укротить раздраженного бога» (Илиада, I, 386). Забыв упомянуть о своей злобе и о дипломатической миссии Афины, герой представляет себя благоразумным приверженцем Аполлона-дальновержца — перед ним стоял царь-нечестивец, поэтому он и был одержим, охвачен яростью, с которой никак не мог совладать.
Преданный, несущий ответственность, учтивый — таков автопортрет оскорбленного сына, который рассказывает матери о самом кровожадном из ахейцев. С большим тактом он напоминает Фетиде о благосклонности, которую питает к ней властелин Олимпа. Не она ли оказала Зевсу самую что ни на есть предупредительную услугу в тот день, когда спасла его от заговора, замышлявшегося Герой, Посейдоном и Афиной? Они хотели заковать Громовержца в цепи, его, верховного бога, но Фетида призвала на помощь сторукое чудовище, которое, сев с отцом богов и людей рядом, одним только своим присутствием разубедило возмутителей спокойствия. Ахиллес на самом деле просит мать обратиться к Зевсу с просьбой сделать так, чтобы Агамемнон потерпел поражение и узнал на собственном горьком опыте, что значит наносить оскорбление самому храброму из ахейцев.