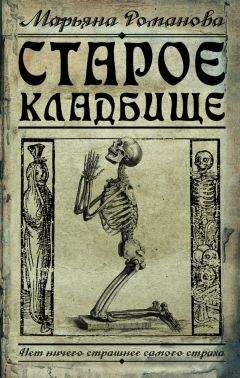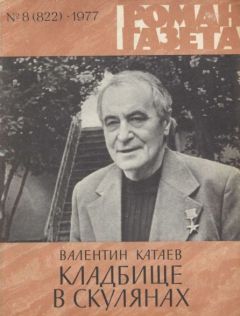Андрей Ястребов - Пушкин и пустота. Рождение культуры из духа реальности
Литературоцентризм – узаконенный проводник ценностей. Герой В. Пелевина задается вопросом, если так считать, то выходит примерно следующее: «Это все равно что считать телевизор причиной идущего по нему фильма. Или причиной существования человека».
В-пятых . Популярность литературоцентризма зиждется на системе мифологических построений: «Пушкин – наше все»; «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“»; «Что делать и кто виноват»; «Толстой – зеркало русской революции», «Книга – источник знаний», «Поэт в России – больше, чем поэт» и т. д. Как любой миф, литературоцентризм проистекает из надобности обобщить явления, находящиеся за пределами нашего понимания, придать этим явлениям внятный и менее устрашающий вид, в конце концов, приручить их.
Если бы камень мог быть мыслящим тростником
Миф литературоцентризма рожден потребностью найти ясную причинность или объяснение, удовлетворяющее нашим представлениям о мире и самих себе. Подобный миф удобен, но и чрезвычайно опасен, хотя бы тем, что он заслоняет частную инициативу прецедентным событием (причем фиктивным), любую социальную импровизацию трактует в контексте уже существующего архетипа. И тут возникает даже не обида, что твой личный опыт уже опередили и предопределили. Проблема заключается в возможностях человека прочитывать этот самый архетип, который не желает разъяснять то, что в себе несет, или, напротив, оказывается весьма убогим: миф предсказал, наметил параметры, реализовался в реальности, но оказался лишь словом, разряженным по смыслу, «пустой» ценностной формой.
Когда миф настаивает на приоритете литературы, и когда литература остается титульным поводырем жизни, а не инструкцией по пользованию этой жизнью, тогда перед человеком открываются две перспективы: импровизируя, бродить, или сохранить безраздельную верность букве высокой культуры. Выбор второй модели в итоге приводит к ироничной мысли Б. Спинозы: «Если бы брошенный человеческой рукою камень мог думать, то он, наверное, вообразил бы себе, что он летит, потому что хочет лететь». Человек прекращает быть паскалевским «мыслящим тростником», он превращается в размышляющий на лету камень, летящий по траектории, заданной литературоцентризмом.
Исходя из данной ситуации, несложно убедиться в том, что классическая литература не подготовила Россию конца XX – начала XXI веков к случившимся социальным метаморфозам. Культурой так и не был реабилитирован предприниматель, за редким исключением представители церкви настойчиво изображались в сатирическом плане и т. д. Хотя современная жизненная реальность активно практикует совершенно иные приоритеты и общественные мифы.
Теперь относительно уже звучавшего тезиса: «Любой современный вид визуального искусства несет отпечаток книги». Он лишь отчасти справедлив: чтобы книга стала фильмом, она адаптируется до сценария, обретает необходимую мобильность и динамизм, то есть порывает с философией книги как с процедурой неторопливого обозрения мира. Симптоматичное явление современности – практика издания сценариев, которые дискредитируют книгу как культурную институцию, но в то же время заявляют о популяризации нового жанра, имеющего к книге самое косвенное отношение, так как первичен визуальный материал.
Критическое морализаторство литературы базируется на мотивах отрицания, преодоления неверно понятой обществом и человеком идеи справедливости. Благородная задача отвержения порока осуществляется писателями через апелляцию к безусловным моральным императивам, либо частным идеям, претендующим на абсолютность. Произвольно интерпретированное художественной литературой Евангелие диктует героям образцы поведения и мысли. Писатели объявляют себя кураторами реальности, направляющими общество и человека в сторону по-своему интерпретированных моральных данностей. Дерзкие идеи назначаются авторами и апологетически настроенной критикой на роль главенствующих. Пафос магической морализаторской фразеологии литературы ориентирован на осуждение и проповедь, на генерирование в сознании общества мобилизационных моральных идей: произнесенное в тексте обязано быть срочно претворенным в жизнь.
На первый взгляд, в подобной ситуации нет ничего предосудительного, но при внимательном рассмотрении явления обнаруживаются социо-философские рецидивы писательской настойчивости и читательской доверчивости. В сознании самих писателей, критиков и пока еще скромной читательской прослойки формируется убежденность, что писатель отмечен неким верным знанием мировых проблем и владеет ответами на все вопросы бытия. Параллельно процессу обожествления писателя и книги начинает бытовать мнение, что читатель выбирает из книги самое ценное, жизнеполезное, формируется мысль, что ему, читателю, достает душевной квалификации отсеять зло, предпочесть добро, не поддаться искушению повторить трагический опыт литературного героя. Книга начинает восприниматься новой притчей, ценное отличие которой от Библии заключается в актуальности обсуждаемых проблем и социальной узнаваемости персонажей. В результате данного, основанного на иллюзии, подхода книга превращается в новую редакцию Библии.
Кто мой Конфуций?
Уже в ХХ веке, особенно после революции, с распространением грамотности и писательского слова человек из народа узнал, как нужно вести себя по отношению к Богу и церкви, убедился в том, что микромир литературы, настаивающий на тождестве макромиру реальности, делает самые радикальные сомнения естественным состоянием человека. Массированно грамотное общество узнало, что литература на протяжении всего XIX века предлагала не слепо веровать, следуя предписаниям Библии и Отцов Церкви, но побуждала задаваться революционно страшными вопросами, искать и находить чудовищные ответы и т. д.
Идеи классиков удачно вписались в пафос атеистической пропаганды. Обывателя ХХ века, впервые столкнувшегося с русской классикой за школьной партой, ни на минуту не покидала уверенность, что проблемы, затронутые в книжках русских писателей, активно обсуждались всем русским обществом и были равно интересны ходокам Некрасова и бродящим в поисках истины аристократам Толстого. Демократический читатель ХХ века был убежден, что русские писатели прошлого столетия воспринимались широкими массами в качестве измерительного прибора для отделения зерен от плевел. Это заблуждение активно поддерживалось официальными историками культуры и концепцией литературоцентризма, которая возвела книгу в статус Бога.
Картина в результате подобных аберраций создалась грандиозная и прозрачно очевидная. Герои русских писателей и сами писателя снискали лавры страстотерпцев, готовых к катастрофическому поиску абсолютных начал мира. Их безумству дисциплинированный читатель ХХ века не уставал петь осанну в школьных классах и студенческих аудиториях.
В одном из фильмов о Чарли Чане герой к месту и не к месту цитирует китайских философов. На вопрос сына, не слова ли Конфуция он привел, отец отвечает: «Я – твой Конфуций». Так случилось и со школьной и с вузовской программами по русской литературе. Слово «классика» из морально-философского аккомпанемента действительности постепенно превратилось в саму действительность.
Многажды перепроверенный, отсортированный и идеологически апробированный набор приемов и техник протеста, столь полюбившихся русской классической литературе, перешел по наследству литературе соцреализма. Советская литература упорядочила параметры бунта. Главным инструментом новой культуры стало переименование. Традиционные идеи подверглись метаморфозам: соборность легко стала народностью, религия – партийностью, вера в Бога – литературоцентризмом. Идея литературо-центризма и первостатейной значимости книги сама стала Богом.
Проницательный, то есть более квалифицированный, читатель хоть и понимал, что в подобной ситуации означающие и означаемые устроили пляску святого Витта (что ни народность – то крепостное право, что ни партийность – то строгий надзор, что ни литературоцентризм – то пошлые истины про образцово-показательный психологизм писателя имярек), но вынужденно соблюдал правила социально-культурного общежития и идеологического мировоззрения.
Оценочные подходы к подобной ситуации неприемлемы, так как ТВ-реальность на самом деле есть не что иное, как переформатированная вариация литературоцентричной модели, практикуемой в России, а потом в Советском Союзе на протяжении последних полутора веков. Базовая литературоцентричная модель предлагала читателю действительность, в которой не следовало сомневаться. Классическая культура позиционировалась в качестве догматической картины идеального бытия и реального обетования. На откуп читателю отдавалась его пошлая повседневность, но система моральных ориентиров и духовных оценок всегда возвышалась в качестве критерия истинности над любыми обывательскими попытками создать свой мир и успешно обживать его, не вступая в конфликт с высокими доминантами.