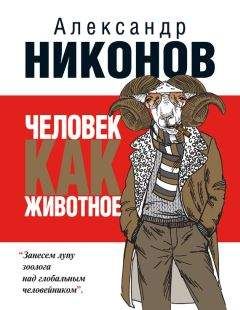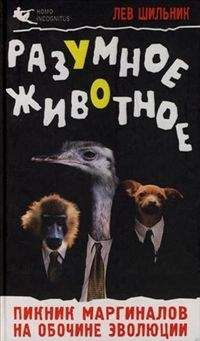Григорий Чхартишвили - Писатель и самоубийство. Часть 2
Американская поэтесса Сара Тисдейл (1884–1933) всю жизнь совершала непоследовательные, противоречивые поступки. Молодость она отдала поэзии, достигла известности и признания, но в тридцать лет вдруг круто изменила судьбу: отказавшись выйти замуж за другого поэта (и будущего самоубийцу) Вэчела Линдсея, предпочла ему обычного, ничем не примечательного бизнесмена. Пятнадцать лет поэтесса тихо прожила в провинциальном Сент-Луисе, а потом спокойный ритм добропорядочного семейного существования ей наскучил, и она снова ринулась в нью-йоркскую поэтическую жизнь. Эмоциональная, подверженная быстрой смене настроений, Тисдейл была болезненно мнительна, а больше всего страшилась инсульта — ее брат был парализован ударом и двадцать лет провел в инвалидном кресле. На всякий случай поэтесса запаслась внушительным запасом барбитуратов, и когда на руке у нее лопнул кровеносный сосуд, решила, что паралич неминуем. Боясь опоздать, она немедленно отравилась. Как подобает богемной поэтессе, Тисдейл завещала развеять свой прах над морем, но ее похоронили на респектабельном кладбище — как добропорядочную домохозяйку.
Вот последнее стихотворение из ее предсмертного сборника «Странная победа»:
Мир, покой. Сияет луна
Над засыпанной снегом крышей.
Будет отдых и тишина.
Песнь безмолвия я услышу.
Дивный мир предо мной предстал,
Я его непременно найду.
Я возьму покоя кристалл,
И слеплю из него звезду.
Раздел II. Не как у людей
Творческий кризис
…И поступают люди так большею частью
в самый лучший период жизни, когда
силы души находятся в самом расцвете,
а унижающих человеческий разум
привычек еще усвоено мало. Я видел,
что это самый достойный выход, и
хотел поступить так.
Л.Н. Толстой. «Исповедь»В главе «Юность» я коротко коснулся темы возрастного кризиса, который свойствен всем людям, но у человека творческого имеет несколько иную хронометрию и совершенно специфическую окрашенность. Обычный человек переживает пору психологической и мировоззренческой ломки сначала перед двадцатилетним рубежом, затем перед пятьюдесятью (так называемый midlife crisis) и еще раз на пороге старости, которая, как известно, у всех наступает в разные сроки. Этот трехпиковый кризис соответствующим образом отражается на суицидной статистике. Трижды на протяжении жизненного пути происходит опасное соединение разноприродных факторов, заставляющих человека взглянуть на свое существование новыми глазами и часто прийти к неутешительным выводам. Физиологический стресс (половое созревание, преодоление пика телесного развития, гормональное увядание) накладывается на психологический (взросление, осознание своей смертности, осознание близости финала) и экономический (бедность и зависимость юности, крах надежд на благополучие среднего возраста, беспомощность и нищета старости).
Всем этим общечеловеческим напастям в полной мере подвержен и художник, но у него к перечню уязвимых участков прибавляется еще один, возможно, самый болезненный — творческая потенция. Художник всю жизнь испытывает страх однажды проснуться и вдруг ощутить, что волшебный дар, составлявший главное содержание его бытия, безвозвратно ушел. Когда творческий человек попадает в один из вышеназванных возрастных капканов, страх этот многократно усиливается: художник, чувствуя, что в нем происходят перемены, боится, что одновременно с физической метаморфозой произойдет и креативная: вдохновение останется по ту сторону — в миновавшей юности, молодости, поре расцвета, что оно не преодолеет этого барьера. Отличие человека искусства от обычных людей тут состоит еще и в том, что кризис середины жизни у творца происходит лет на десять раньше, с окончанием телесной и ментальной молодости — так называемый «синдром 37 лет». Именно этот рубеж становится для литераторов главным возрастным испытанием.
Но прежде чем разобраться, почему именно порог сорокалетия так обилен писательскими самоубийствами, попытаемся разобраться в самой природе «творческого» суицида. Мне кажется, что суть этого трагического происшествия почти всегда — в отсутствии смирения и истинной религиозности, то есть в сознательном или неосознанном соперничестве художника с Богом.
У литератора это происходит так. Все, что он изображает при помощи слов, субстантивируется, превращается в вещь, в прикнопленный к бумаге предмет. В работе «Литература и право на смерть» Морис Бланшо пишет, что, сделав своей задачей подмену реальных вещей словами, литература не может остановиться, пока не изгонит бытие из всего мира, пока не добьется его тотального разрушения. Я бы сформулировал эту мысль несколько иначе: начав подменять реальные вещи словами, литература не остановится, пока не назовет все вещи словами, то есть пока не создаст полную копию реального мира. Так возникает иллюзия власти над миром. Флобер писал, что автор творит свой собственный мир подобно Богу. Что ж, писатель и в самом деле властелин в созданной им вселенной, он там — всемогущий творец, и как таковой вступает в соперничество с тем Творцом, который придумал мир, где существует сам писатель. Вот почему писатели так любят сочинять романы о писателях: автор сам становится Творцом, дергающим за ниточки другого творца — вымышленного писателя, и, должно быть, при этом воображает, что Бога, его собственного Творца, тоже вполне может дергать за ниточки некий еще более могущественный Писатель.
Для человека искусства самоубийство часто становится попыткой сравняться с Творцом, отнять у него главную власть — власть над своей жизнью. «Если кто-то сумеет обладать собой вплоть до смерти, сквозь смерть, — пишет Бланшо, — то он возобладает и над тем всемогуществом, что настигает нас в смерти, сделает его не более чем мертвым всемогуществом. Таким образом самоубийство Кириллова оказывается смертью Бога». Я бы даже сказал — убийством Бога.
«Если я совершу самоубийство, то не для того, чтобы себя разрушить, а для того, чтобы себя собрать. Самоубийство станет для меня единственным средством насильно отвоевать себя, грубо вторгнуться в мое естество, предварить неизбежное приближение Бога».
Антонен Арто
Богоборческая подоплека мук творческого кризиса не всегда осознается самим писателем, и тогда он определяет мотивацию своего суицидального намерения иначе. Он пишет и говорит о желании «убежать от мук творчества», жалуется на смертельную усталость от иссушения души. Насчет души проверить трудно, но мозг творческого человека, кажется, и в самом деле может преждевременно стариться. Вскрытие тела Байрона обнаружило в его мозгу и сердце явные признаки старения — это в 36-то лет.
Когда Дар покидает художника или пугает, что хочет покинуть, откуда ни возьмись возникает воспетый Брюсовым «Демон самоубийства» (обратим внимание на многозначительную датировку этого стихотворения: «Ночь 15/16 мая 1910»).
…Он в вечер одинокий — вспомните, —
Когда глухие сны томят,
Как врач искусный в нашей комнате,
Нам подает в стакане яд.
Он в темный час, когда, как оводы,
Жужжат мечты про боль и ложь,
Нам шепчет роковые доводы
И в руку всовывает нож…
В лесу, когда мы пьяны шорохом
Листвы и запахом полян,
Шесть тонких гильз с бездымным порохом
Кладет он молча в барабан…
Только демон этот вовсе не похож на воспетого Брюсовым черноглазого «пленительного юношу» со «странно-длительной улыбкой» — это для молоденьких, чувствительных поклонниц вроде Надежды Львовой (1891–1913), с которыми мэтр играл в демонизм.
Писательский демон самоубийства некрасив, неулыбчив, полубезумен, с воспаленными от бессонницы глазами. Это другая ипостась демона творчества, пришедшего получить причитающееся по счету.
Иногда расплата наступает очень рано, в самом начале жизненного пути: у бурно расцветшего таланта дыхание оказывается жарким, но коротким. Литераторы-«спринтеры» (чаще всего поэты), исчерпавшие свой дар прежде, чем вошли в зрелую пору, воспринимают творческий кризис не так уж болезненно. Талант не был выстрадан ими, а достался как бы сам собой; еще не прожитая, едва пригубленная жизнь, кажется, таит столько иных, не менее острых, чем творчество, ощущений! Восемнадцатилетнему Рембо или девятнадцатилетнему Дюпре, должно быть, мнилось, что они вполне смогут прожить и без поэзии. Но это, увы, иллюзия — для «нормальной» жизни рано отцветшие дарования обычно оказываются совершенно непригодны: не так, как все, живут, не так, как все, умирают.