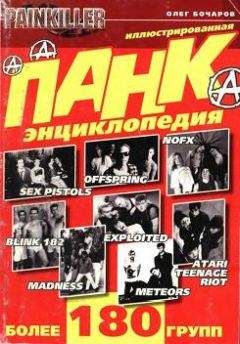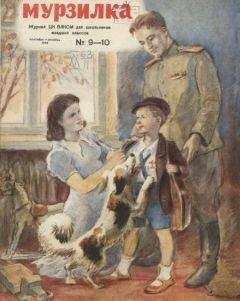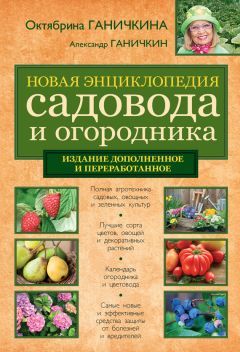Михаил Дунаев - Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв.
Молитва "Господи и Владыко живота моего…", по признанию самого поэта, обрела особое значение для его духовной жизни.
Стихотворение "Отцы пустынники…" близко к святоотеческому пониманию особенностей внутренней духовной жизни, в частности молитвенной.
Стихотворение состоит из двух частей: вначале поэт раскрывает значение для себя великопостной молитвы, затем дает ее поэтическое переложение. Закономерен вопрос (какой мы задавали, касаясь практики переложения священных текстов другими поэтами): не кощунственно ли вообще какое-либо вмешательство в канонический текст, освящённый авторитетом и духовной практикой Церкви? Нет. Разумеется, если бы Пушкин (или иной кто), перелагая текст, предложил бы нам его в качестве обязательного для практического использования, то такую претензию следовало без обсуждения отвергнуть. Но переложение, подобное пушкинскому, есть своего рода скрытый комментарий к тексту, а не подмена текста. Это рассказ человека о том, что для него значит данный текст, как он его понимает и воспринимает. Это его подлинная исповедь.
Конечно, некоторые различия между текстом каноническим и переложением объясняются особенностями и законами версификации, но прежде всего те или иные отличия указывают именно на индивидуальный опыт восприятия текста молитвы.
Так, Пушкин соединяет в одно два различных греха, отмеченных молитвой: праздность и уныние. Таково его постоянное умонастроение: восприятие двух состояний души в неразрывности. Праздность он нередко упоминает именно в соединении с унынием. Это не противоречит и святоотеческому пониманию греха.
При упоминании любонаналия Пушкин как бы не удержался дополнить немногословность молитвы, называя эту греховную страсть сокрытою змеёю. И впрямь, знакомясь с живым обликом поэта (по свидетельствам современников, по письмам, другим источникам), трудно заподозрить в нем грех гордыни, стремления первенствовать (что, собственно, и означает любоначалие). Пушкин представляется скорее человеком простодушным, весёлым, доброжелательным, вовсе не гордецом, не высокомерным спесивцем. Но дело в том, что грех, не имевший явных внешних проявлений, сокрытой змеёю грыз душу изнутри (ср. в «Воспоминании»: "змеи сердечной угрызенья") — и тут не наши фантазии, а его собственное признание. Еще в стихотворении "В начале жизни школу помню я…" признавался он в том же, теперь довел раскаяние до предельно обострённого обозначения тайной страсти. Да и все мучения, связанные с охлаждением и небрежением читающей публики (а это было, так что иные любители поэзии даже Бенедиктова превозносили как поэта над Пушкиным, хоть то и нелепость явная), какие так слышны в стихах его — не из этого ли греха, пусть и отчасти, родились? Пророк не должен смущаться подобными мирскими помыслами: он служит Богу, а не толпе.
Далее Пушкин допускает перестановку, весьма значительную и знаменательную. К перечислению греховных страстей Пушкин присоединяет просьбу к Богу помочь ему узреть эти грехи свои и привосокупляет к ним еще один из важнейших: грех осуждения. Поэт, в отличие от преподобного Ефрема Сирина, соединяет все грехи вместе, сосредоточивает внимание именно на них: как на важнейшем для себя "средь дольних бурь и битв". Он подчеркивает, что для него нужна именно такая логика: вначале добиться чистоты сердца, избавив его от тягот алчного греха, чтобы затем наполнить его сокровищами небесными, важнейшие из которых он называет вслед за святым подвижником: дух смирения, терпения, любви и целомудрия. Нетрудно заметить, что и в этом перечислении поэт несколько меняет порядок, установленный в молитве. Целомудрие он ставит в конце, видя в нем как бы итог, верхнюю ступень духовного восхождения, ибо выстраивает свою «лествицу» от смирения и терпения к любви и целомудрию. Это не противоречит святоотеческому учению. Ведь целомудрие, которое понимается обыденным сознанием несколько упрощенно, есть именно цельная мудрость, охватывающая всё единство бытия. Целомудрие есть не что иное, как высшая степень в развитии соборного сознания.
Созданные незадолго до смерти поэта стихотворения "Отцы пустынники…" и «Памятник» стали подведением итогов духовного развития Пушкина.
"Памятник" есть поэтическое размышление на традиционно заданную тему. Первоисточник известен, Пушкин напоминает о нем в эпиграфе, приведя его начало, — стихотворение Горация. Обращались к нему многие поэты и помимо Пушкина, например Ломоносов и Державин.
Прежде всего отметим очевидное: «Памятник» свидетельствует, помимо всего прочего, и о неизжитом грехе любоначалия; пусть упоминание об этом и покажется кому-то неприемлемым упрощением проблемы, но и умолчание станет погрешением против нелицеприятной беспристрастности. Признаем также, что подобное наблюдение слишком поверхностно и впрямь упрощает проблему.
В «Памятнике», в его первых трех строфах, проявляется то, что академик Д.С. Лихачёв назвал "панорамным зрением", — способность охвата единым взором необъятного пространства. Взор Пушкина охватывает не только физическое, но и временное пространство.
Подобное видение пространства, пространствопонимание (термин, введенный о. Павлом Флоренским) отражает особое мировидение художника. В. Непомнящий исчерпывающе определил мироощущение Пушкина: "Для него бытие есть безусловное единство и абсолютная целостность, в которой нет ничего «отдельного», и самозаконного — такого, что нужно было бы для «улучшения» бытия отрезать и выбросить". Наличие панорамного зрения отражает способность видения всех сторон мироздания в их единстве. А это не что иное, как проявление соборного сознания, присущего искони русской культуре и утрачиваемого ею постепенно начиная с XVII века. Возрожденческий гуманизм и Просвещение раздробили мироощущение человека, и новое обретение соборного сознания стало одной из главных задач русской культуры. Пушкин поставил эту задачу во всей полноте, и вся его творческая жизнь была направлена на владение единством Истины. Божией волей ему было открыто восприятие творения от Горних высот до глубин морских. К целомудрию — высшей ступени соборного сознания — он стремился всю жизнь.
Разрушает единство грех, ибо он отъединяет человека от Бога и от церковной целостности. Следствием разъединения становится одиночество. Именно так можно понимать переживание греха и одиночества в поэзии Пушкина, его душевные мучения: это страдание души вне единства, указанного Спасителем: "… Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино" (Ин. 17,21).
Отсутствие понимания смысла жизни на этом уровне есть, скажем еще раз, ненахождение своего места в Замысле о мире. И чтобы сознать цель, необходимо познать Замысел. А для этого потребно обрести чистоту сердца. А для этого — духовно возжаждать и обратиться за помощью к Творцу и быть Ему послушным. Исполниться волей Его. Такая логика нам уже хорошо знакома, мы лишь вновь повторяем ее.
В. Непомнящий справедливо назвал «Памятник» откликом на «Пророка». Тому, что постулировано прежде, здесь подводится итог.
Знаменательно, что здесь нет настоящего времени — только прошлое и будущее. Для скрепления этого идеального единства необходима любовь: любовь народа в ответ на излияние любви поэта к нему.
"Заповедь новую даю вам: да любите друг друга…" (Ин. 13,34).
То есть для сплочения единства на основе любви необходимо важнейшее — следование Божией воле. Последняя строфа «Памятника» как раз и указывает на непременность этого условия. Тут Пушкин подводит окончательный итог всему. Духовный вывод из всех предыдущих построений: "Веленью Божию, о муза, будь послушна…"
В последней строфе глаголы из временных форм прошедшего-будущего переводятся сразу в императив. И рождается важный вопрос: является ли «Памятник» своего рода подведением жизненного итога в предчувствии близящегося конца или же одновременно и начертанием жизненного плана для себя самого на будущее? Завещанием тем, кто остался, или наставлением самому себе?
Немногим ранее «Памятника», в 1835 году, Пушкин пишет стихотворение «Родрик», сюжет которого строится на преодолении грешным человеком Божиего наказания — смиренным приятием Господней воли. Завершающие строки «Родрика» слишком важны для понимания особенностей внутреннего состояния поэта при завершении его земного пути:
Пробудясь, Господню волю
Сердцем он уразумел,
И, с пустынею расставшись,
В путь отправился король.
С пустынею расставшись… Снова пушкинский ключевой образ: пустыня мрачная… долина дикая…
Герой стихотворения расстается с пустынею, куда удаляется, гонимый проклятиями, гонимый грехом ("грех алчный гонится… по пятам…"). Не собственное ли стремление поэта расстаться со своею пустынею отражено в этом образе?