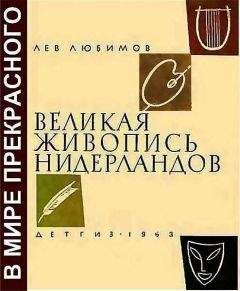Готхольд Лессинг - Лаокоон, или О границах живописи и поэзии
Поистине, картина Кэйлюса относилась бы к картине Зевксиса точно так же, как пантомима к возвышеннейшей поэзии.
В древности Гомера читали, без сомнения, больше и внимательнее, чем сейчас, и, однако, мы не видим, чтобы древние художники извлекали из него много сюжетов для своих картин137. Они пользовались в этом отношении преимущественно указаниями поэта на особую телесную красоту; такую телесную красоту и любили они изображать, ибо хорошо чувствовали, что в этом только отношении они могут соперничать с поэтом. Кроме Елены, Зевксис написал также Пенелопу, а Диана, написанная Апеллесом, была Дианой Гомера в сопровождении своих нимф (по этому случаю я считаю нужным упомянуть, что место у Плиния, где идет речь о Диане, требует поправки)138. Изображать же действия, взятые из Гомера, потому только, что они отличаются богатством композиции, счастливыми контрастами и искусством освещения, казалось древним художникам не отвечающим истинному вкусу; и это действительно было так, пока искусство не выходило из тесных границ своего высшего назначения. Но зато они проникались духом поэта, наполняя свое воображение высокими чертами его поэзии; огонь его воодушевления воспламенял и их; они видели и чувствовали так же, как он, и, таким образом, их произведения делались как бы копиями поэтических произведений, хотя сходство их не было сходством портрета с оригиналом, а скорее – сына с отцом: один похож на другого и между тем отличен от него. По большей части это сходство состоит лишь в одной черте, с которой гармонируют все остальные, хотя сами по себе эти остальные черты не имеют между собой ничего общего.
С другой стороны, так как высокие образцы Гомеровой поэзии были древнее любого образцового произведения других искусств и так как Гомер успел оглядеть поэтическим взором природу раньше, чем Фидий или Апеллес, то нет ничего удивительного, что художники находили у Гомера уже готовыми различные, особенно нужные им наблюдения прежде, чем успевали сделать их сами, и что они стремились ухватить эти черты, подражая, таким образом, в Гомере самой природе. Фидий сознавался, что стихи:
Рек, во знаменье черными Зевс помавает бровями,
Быстро власы благовонные вверх поднялись
у Кронида
Окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп
многохолмный...139 –
послужили ему образцом его Юпитера Олимпийского и что только при их помощи удалось ему это божественное лицо, кажущееся как бы сошедшим с небес. Толковать это признание таким образом, будто фантазия художника, оживленная высоким поэтическим образом, сама получила способность к столь же возвышенным представлениям, значит, по-моему, упускать из виду самую сущность и удовлетворяться чрезвычайно общими объяснениями там, где необходимо видеть более прямой смысл. По моему мнению, Фидий признается здесь, что из приведенного места Гомера он прежде всего заметил, какая выразительность заключается в бровях и как много души140 в них открывается. Очень может быть, что те же стихи заставили его обратить больше внимания на волосы и стараться отобразить насколько возможно то, что Гомер называет благовонными волосами. Ибо известно, что древние художники до Фидия мало понимали выразительность и значение физиономии и особенно пренебрегали отделкой волос. Еще Мирон был слаб в том и в другом, как замечает Плиний141, и, по его же словам, Пифагор Леонтин выделился тем, что он первым начал изящно отделывать волосы142. Чему Фидий научился у Гомера, тому другие художники научились у Фидия.
Я приведу еще один пример подобного же рода, который мне всегда особенно нравился. Припомним, что говорит Хоггарт об Аполлоне Бель-ведерском143. «Этого Аполлона, – замечает он, – и Антиноя можно видеть в Риме в одном и том же дворце. Но если Антиной приводит зрителя в восхищение, то Аполлон, напротив, поражает, и именно потому, что, как говорят путешественники, по виду он представляет нечто сверхчеловеческое, нечто такое, чего большая часть из них обычно не в силах описать. Это впечатление, по их словам, тем удивительнее, что при ближайшем исследовании становится ясной самому неискушенному глазу непропорциональность статуи. Один из лучших наших английских скульпторов, ездивший недавно в Рим, подтвердил мне только что сказанное, а именно то, что ноги и бедра статуи слишком длинны и толсты по отношению к верхней части тела. Андреа Сакки, один из величайших итальянских живописцев, был, по-видимому, того же мнения, иначе трудно было бы понять, зачем он в своей знаменитой картине (которая теперь находится в Англии), изображающей увенчание певца Пасквилини Аполлоном, придал своему Аполлону пропорции Антиноя, между тем как в остальном вся фигура его представляет копию с Аполлона Бельведерского. Но хотя мы действительно часто наблюдаем в величайших произведениях, что какая-нибудь маловажная деталь в них оставляется без внимания, однако это не может иметь места в настоящем случае, ибо в прекрасной статуе соразмерность есть одно из важнейших условий красоты. Итак, необходимо заключить, что нижние части тела увеличены умышленно, ибо в противном случае легко было бы избежать этого недостатка. Действительно, при более глубоком изучении красот этой фигуры мы приходим к убеждению, что то, что считалось невыразимо прекрасным в статуе в целом, происходит именно от той несоразмерности частей, которая на первый взгляд кажется недостатком». Все это чрезвычайно верно и остроумно. Я прибавлю только со своей стороны, что уже сам Гомер чувствовал и указывал на то, что особая величина ног и бедер придает фигуре более величественный вид. Ибо, когда Антенор сравнивает Улисса с Менелаем, он, между прочим, замечает:
Стоя, плечами широкими царь Менелай отличался;
Сидя же вместе, почтеннее был Одиссей
благородный144.
Итак, если Улисс в сидячем положении выигрывал в смысле внешности, между тем как Менелай терял, то нетрудно понять, как верхняя часть туловища относилась у обоих и к ногам и к бедрам. У Улисса она была велика по сравнению с нижней частью, у Менелая же наоборот.
XXIII
Одна неподходящая часть может, конечно, нарушить общее впечатление от прекрасного целого, но предмет еще не становится от этого безобразным. Для того чтобы создалось впечатление безобразного, требуется ряд неподходящих частей, которые также надо воспринимать сразу; только тогда получается впечатление, противоположное тому, какое производит на нас прекрасное.
Поэтому безобразное по существу своему, казалось бы, также не могло быть предметом поэзии, а между тем Гомер изобразил самую безобразную наружность в лице Терсита, и притом изобразил по частям. На каком же основании позволил он себе при описании безобразного то, чего так старательно избегал в описании прекрасного? Разве впечатление от безобразного не ослабляется, как и впечатление от красоты, благодаря постепенному перечислению составляющих его частей?
Без сомнения; но в этом-то именно и заключается оправдание Гомера. Именно потому, что в воспроизведении поэта безобразное ослабляется и описание телесных недостатков не производит на нас такого противного впечатления, именно потому и может оно найти место в поэзии. Если поэт не может пользоваться им для своих прямых целей, то, по крайней мере, он может вводить безобразное для возбуждения и усиления тех смешанных впечатлений, которыми он продолжает нас занимать при недостатке одних только приятных впечатлений.
Эти смешанные впечатления создаются из сочетания смешного и страшного.
Гомер представляет Терсита безобразным для того, чтобы представить его смешным. Но он смешон не одним своим безобразием: уродство есть только недостаток, а для смешного требуется контраст между совершенством и недостатка-ми145. Таково определение смешного, сделанное моим другом Мендельсоном. Я бы прибавил только к этому определению, что контраст не должен быть слишком резким или что противоположности, говоря языком живописцев, должны быть такого рода, чтобы иметь возможность слиться между собою. Мудрый и справедливый Эзоп не сделается еще смешным от того, что мы придадим ему наружность Терсита. Сделать самого Эзопа, именно его безобразие, причиной того неистощимого смеха, которым проникнуты его поучительные сказки, было глупой и неудачной попыткой дураков монахов. Безобразное тело и прекрасная душа точно так же, как масло и уксус, остаются раздельными на вкус, хотя бы мы и сбивали их вместе. Они не дают ничего третьего; тело возбуждает досаду, душа – удовольствие, то есть совершенно самостоятельные чувства. Только тогда, когда уродливое тело вместе с тем слабо и болезненно, когда оно мешает свободным проявлениям духовной деятельности, только тогда могут слиться между собою чувства досады и удовольствия, но вытекающее из этого слияния новое впечатление будет не смехом, а состраданием, и лицо, которое без того было бы для нас лишь достойным высокого уважения, становится теперь интересным. Уродливый и болезненный Поп был, конечно, более интересен своим друзьям, нежели красивый и здоровый Уичерлей – своим. Но если уродливость Терсита сама по себе и не делает его смешным, то, с другой стороны, без нее он не мог бы быть смешон. Соответствие этого уродства с его характером, противоречие того и другого его собственному высокому мнению о себе, никчемность его ехидной болтовни, унижающей его самого, – все это, вместе взятое, производит комическое впечатление. Последнее обстоятельство и есть безвредность, которую Арис– тотель146 ставит непременным условием смешного; точно так же Мендельсон считает необходимым, чтобы контраст не был значительным и не мог нас слишком заинтересовать. Ибо стоит только допустить, что коварная попытка Терсита унизить Агамемнона обошлась бы ему дорогой ценой, что вместо двух кровавых рубцов он заплатил бы за нее жизнью, как мы бы тотчас перестали смеяться над ним. Этот нравственный и физический урод – все-таки человек, гибель которого сразу же покажется нам гораздо большим злом, нежели все его проступки и грехи. Чтобы сделать подобный опыт, стоит только прочесть описание его смерти у Квинта Калабра147. Ахилл сожалеет о том, что убил Пентесилею. Эта красота, обагренная столь мужественно пролитою кровью, вызывает в герое уважение и сострадание, и эти чувства переходят в любовь. Но злоречивый Терсит вменяет ему эту любовь в преступление. Он видит в ней сластолюбие, которое, по его словам, доводит до безумия самого мудрого человека; тогда взбешенный Ахилл, не говоря ни слова, ударил Терсита по щеке с такой силой, что у него хлынула горлом кровь, вылетели зубы, а вместе с ними – и его душа, – это уже отвратительно. Разъяренный убийца Ахилл делается ненавистнее лукавого Терсита; радостный крик, которым отвечают греки на этот поступок, оскорбляет меня; я становлюсь на сторону Диомеда, который уже обнажает меч, чтобы отомстить убийце за смерть своего ближнего, ибо я также чувствую, что Терсит – мой ближний, что он – человек.