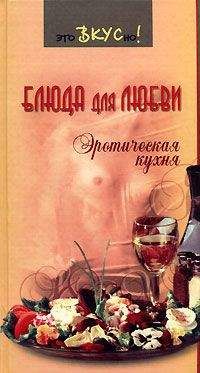Ольга Матич - Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России
Оба мыслителя искали альтернативу прокреативному половому акту, при котором фаллос извергает семя наружу — в женское лоно. Если понимать «обращение внутрь» буквально — как телесное изображение, — то Соловьев предлагает в качестве финального аккорда истории проникновение фаллоса в собственное тело. Если рассмотреть эту форму соития в контексте fin de siècle и дать ей декадентское объяснение, она предполагает либо «сексуальную инверсию» (эвфемизм для гомосексуализма), либо автоэротизм.
Столь противоречивое описание отрицающего смерть жизнетворческого соития, безусловно, требует, чтобы мы пересмотрели роль секса в утопии Соловьева. Коллективное сизигическое совокупление всех мужчин и женщин, живущих и умерших, в финале «Смысла любви» напоминает последний акт прорицания христианской драмы истории в «Откровении», связующий искупление и божественный брак. В книге Откровения фигуры Христа — Спасителя и Христа — Жениха, невеста которого — Новый Иерусалим, переплетаются; однако это апокалиптическое единство ни в какой момент не предполагает символического эротического союза.
Неразрешенным в «Смысле любви» остается вопрос собственно эротического союза. Как он может считаться союзом двух индивидуумов, если преобразующий момент — это «обращение внутрь <…> творческой силы»? Образ эротической инверсии Соловьева тяготеет к индивидуальному эротическому переживанию, а не к слиянию с другим. В контексте декадентского эротизма (особенно в формулировке Фрейда) инвертированный фаллос предполагает характерный для того времени страх перед кастрацией и отсутствием мужского начала, а не фаллическую силу.
Все это делает особенно интересными суждения Е. Н. Трубецкого, московского философа того времени, о месте половой любви в соловьевской эсхатологии. Выше я указывала, что он первым назвал отношение Соловьева к любви «утопией земной любви, основанной на учении об андрогине». Трубецкой начинает с анализа утверждения Соловьева, что «бесмертны не мужчина и женщина отдельно, а только андрогин, сочетание двух особей обоего пола, в одну индивидуальность»[46]. Далее Трубецкой осуждает эти взгляды Соловьева за неопределенность, т. к. андрогин не является ни духовным идеалом, ни жизненной моделью. Основной пункт его критики заключается в том, что андрогинизм, основанный на воздержании, «не переносит любовь на небо; а между тем он отнимает ее у земли. И с этой точки зрения он во всех отношениях противоестественен… его понимание любви, — пишет Трубецкой, — ненормально… Половое воздержание при самом интимном общении и интенсивной взаимной любви вряд ли может быть признано нормальным и с точки зрения чисто человеческой», и с божеской[47].
Как человек, чье мировоззрение определяется деторождением и продолжением рода, Трубецкой отрицает за Соловьевым позицию парадоксалиста. Он приходит к выводу, что «попытка [Соловьева] превратить любовь в совершенную жертву спасения сделала ее бесплодной на земле и сообщила ей неестественный облик любви кастрированной» (курсив мой. — О. А/.)[48]. Упоминание кастрации — по всей видимости, аллюзия на закрепившуюся за Соловьевым репутацию русского Оригена. Считалось, что Ориген, вероятно, самый авторитетный христианский теолог до Августина, оскопил себя: это было частью его радикально аскетического проекта очищения тела[49]. В контексте эпохи, однако, это упоминание наводит на мысли не об Оригене, а о кастрированной маскулинности и образе инвертированного или кастрированного эроса в заключительной статье «Смысла любви». Вероятно, Трубецкой сознательно включает их в свою аллюзию. Он не может принять эротическую философию, которая бы символически кастрировала мужчину, особенно если она жертвует ныне живущими поколениями ради утопического будущего. Идея восстановления целого, будь то в образе платоновского андрогина или христоподобного Богочеловека, кажется ему несостоятельной[50]. Как «натуралист», предпочитающий природу искусственному, Трубецкой отвергает соловьевскую проповедь целомудрия как способа вознести влюбленных из природы в жизнь после смерти (или, на языке декаданса, из природы в сферу искусственного). Если продолжить мысль Трубецкого, Соловьев будто бы дарует бессмертие только «извращенцам» и отказывает в Царстве Небесном тем, кто пополняет природу здоровым потомством.
Если вслед за Трубецким судить об эротической утопии Соловьева в перспективе реальной жизни, она, безусловно, оказывается совершенно губительной, поскольку призвана положить конец этой жизни в ее нынешнем виде (как и фантазия Позднышева, хотя и по совсем другим причинам). Но, несмотря на амбиции Соловьева, весь проект оставался сугубо риторическим. Поэтому мы судим его не по практическим последствиям, а по силе воображения и радикальному утопическому видению — в качестве символической системы, производной от утопической культуры рубежа веков, а не жизненной практики, которую надо понимать буквально — несмотря на то, что в моем исследовании я в некотором отношении это делаю.
Воздержание — подтекст всех утопических проектов, целью которых является бессмертие в этом мире. Сам Соловьев дает противоречивые ответы на вопрос, что следует из его учения. В «Смысле любви» он остроумно замечает, что если размножение — причина смерти, то, логически, воздержание — средство для «уничтожения смерти». Но всем известно, пишет Соловьев в очевидной своей полемике с «Крейцеровой сонатой», что воздержание никого не спасло от смерти[51]. Возражения Соловьева вызывает не толстовская проповедь воздержания, а тот моралистический дискурс, в который ее поместил Толстой.
Мы можем только заключить, что Соловьев либо так до конца и не разработал свою философию эроса, либо она просто нереализуема, ибо изначально утопична. Также приходится признать, что время от времени его философия любви переходит из платоновского царства идей и христианского царства духа в область декадентской фантазии. Хотя андрогинизм выводится как духовный идеал, где‑то на задворках платоновской вселенной Соловьева маячит образ декадентского андрогина, стирающего гендерные различия своим существованием в «извращенном» пространстве между мужским и женским. Целомудрен ли андрогин или нет, остается загадкой, хотя в действительности этот вопрос относится к живущим людям, стремящимся к преображению. Должны ли они практиковать воздержание до финального полового акта, который ознаменует победу над различиями между полами и станет символическим концом истории? Если да, то взгляды Соловьева на секс выглядят не только репрессивными, но неестественными и нездоровыми (как и пишет Трубецкой). При подобном подходе сексуальное удовлетворение откладывается до последнего момента: до того эротическое желание стимулируется, а затем сохраняется. Расходование эротической энергии в этом мире является сугубо умозрительным. Запрет же только усиливает напряженность извращенного удовольствия.
Девственник или евнух?
С точки зрения некоторых современников (и символистского поколения Александра Блока), один из ключевых моментов соловьевского мифа — это его образ «рыцаря — монаха», как назвал его Блок[52]. Репутация Соловьева — девственника поддерживалась его братом Михаилом и племянником Сергеем (последний со временем станет активным участником блоковского культа). Подчеркивая парадоксальный аспект идеологии и поведения Соловьева, Мочульский изображает его аскетом в эротическом поведении, который много раз влюблялся и охладевал. Жена И. Янжула, опекавшая философа во время его пребывания в Лондоне в 1875 г., была поражена его внешностью аскета. Обеспокоенная возможной психопатологией, она отмечала его слабость и болезненность: поскольку ум его развивался слишком быстро, он должен был сойти с ума[53].
Вскоре после публикации первой части «Смысла любви» журнал «Странник» окрестил философа «современным Оригеном»[54]. Одно из посвященных ему исследований даже было озаглавлено «Русский Ориген XIX века Вл. Соловьев»[55]. Сам Соловьев был автором статьи об Оригене в русской версии энциклопедии Брокгауза и Эфрона. В ней он утверждал, что, согласно истории церкви, ученый богослов добровольно подверг себя оскоплению, «чтобы избежать соблазнов со стороны многочисленных слушательниц катехитической школы», однако выражал сомнение в том, что Ориген в действительности стал скопцом[56]. Тем не менее физиолог и биограф Соловьева С. М. Лукьянов писал, что «Ф. Э. Шперк передал [Розанову …] весьма сочувственные слова Соловьева о принципе оскопления как радикальн[ом] средств[е] отвязаться от угнетающей нас “плоти”»[57].