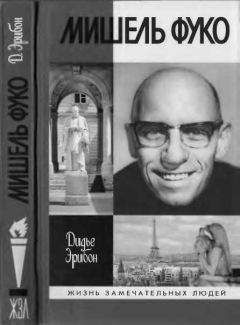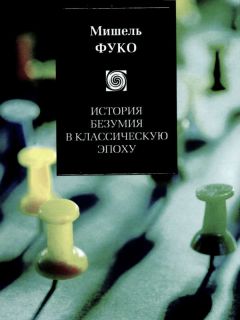Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук
Весь его путь — это поиск подобий: ничтожнейшие аналогии он пытается использовать как дремлющие знаки, которые надо пробудить, чтобы они снова заговорили. Стада, служанки, постоялые дворы остаются языком книг в той едва уловимой мере, в какой они похожи на замки, благородных дам и воинство. Это сходство неизменно оказывается несостоятельным, превращая искомое доказательство в насмешку, а речь книг — в расплывчатое пустословие. Однако у самого отсутствия подобия тоже есть свой образец, которому оно рабски подражает, находя его в метаморфозе волшебников, вследствие чего все признаки отсутствия сходства, все знаки, показывающие, что написанные тексты не говорят правды, напоминают то колдовство в действии, которое хитростью вводит различие в несомненность подобия. Но так как эта магия была предусмотрена и описана в книгах, то мнимое различие, вводимое ею, всегда будет лишь волшебным подобием. Иными словами — дополнительным знаком того, что знаки действительно сходствуют с истиной.
«Дон Кихот» рисует нам мир Возрождения в виде негативного отпечатка: письмо перестало быть прозой мира; сходства и знаки расторгли свой прежний союз; подобия обманчивы и оборачиваются видениями и бредом; вещи упрямо пребывают в их ироническом тождестве с собой, перестав быть тем, чем они являются на самом деле; слова блуждают наудачу, без своего содержания, без сходства, которое могло бы их наполнить; они не обозначают больше вещей; они спят в пылимежду страницами книг. Магия, дававшая возможность разгадки мира, открывая сходства, скрытые под знаками, служит теперь лишь для лишенного смысла объяснения того, почему все аналогии всегда несостоятельны. Эрудиция, прочитывавшая природу и книги как единый текст, возвращается к своим химерам: ценность знаков языка, размещенных на пожелтевших страницах фолиантов, сводится лишь к жалкой фикции того, что они представляют. Письмена и вещи больше не сходствуют между собой. Дон Кихот блуждает среди них наугад.
Тем не менее язык не полностью утратил свое могущество. Отныне он обладает новыми возможностями воздействия. Во второй части романа Дон Кихот встречается с героями, читавшими первый том текста и признающими его, реально существующего человека, как героя этой книги. Текст Сервантеса замыкается на самом себе, углубляется в себя и становится для себя предметом собственного повествования. Первая часть приключений играет во второй части ту роль, которая вначале выпадала на долю рыцарских романов. Дон Кихот должен быть верным той книге, в которую он и в самом деле превратился; он должен защищать ее от искажений, подделок, апокрифических продолжений; он должен вставлять опущенные подробности, гарантировать ее истинность. Но сам Дон Кихот этой книги не читал, да и не стал бы читать, так как он сам — эта книга во плоти. Он так усердно читал книги, что стал было знаком, странствующим в мире, который его не узнавал; и вот вопреки своей воле, неведомо для себя он превратился в книгу, хранящую свою истинность, скрупулезно фиксирующую все, что он делал, говорил, видел и думал, — в книгу, которая в конце концов приводит к тому, что он узнан, настолько он похож на все те знаки, неизгладимый след которых он оставил за собой. Между первой и второй частями романа, на стыке этих двух томов и лишь благодаря им Дон Кихот обрел свою реальность, которой он обязан только языку, реальность, остающуюся всецело в пределах слов. Истинность Дон Кихота не в отношении слов к миру, а в той тонкой и постоянной связи, которую словесные приметы плетут между собой. Несостоятельная иллюзия эпопей стала возможностью языка выражать представления. Слова замкнулись на своей знаковой природе.
«Дон Кихот» — первое из произведений нового времени, так как в нем видно, как жестокий закон тождеств и различий бесконечно издевается над знаками и подобиями; так как язык порывает здесь со своим былым родством с вещами и входит в ту одинокую суверенность, из которой он возвратится в своем грубом бытии, лишь став литературой; так как сходство вступает здесь в эпоху, которая для него является эпохой безрассудства и фантазии. После того как разъята связь подобия и знаков, могут возникать два вида практики, столкнуться два персонажа. Сумасшедший, понимаемый не как больной, но как установленное и поддерживаемое отклонение от нормы, как необходимое проявление культуры, стал в практике западной цивилизации человеком необычных сходств. Этот персонаж, в том виде, в каком он изображался в романах или в театре эпохи барокко и в каком он постепенно институциализировался вплоть до психиатрии XIX века, сходит с ума в аналогии. Он безалаберный игрок в Тождественное и Иное. Он принимает вещи за то, чем они не являются, путает людей, не узнает своих друзей и узнает незнакомцев; ему кажется, что он срывает маски; но он же их налагает. Он переворачивает все ценности и все пропорции, так как каждое мгновение ему кажется, что он расшифровывает какие-то знаки: по его мнению, по одежде узнают короля. Вплоть до конца XVIII века сумасшедший с точки зрения культуры является Различающимся лишь в той мере, в какой Различие неведомо ему самому; везде он видит одни лишь сходства и знаки сходства; все знаки для него похожи друг на друга и все сходства значимы в качестве знаков. На другом конце пространства культуры, хотя вследствие своего симметричного положения и очень близко, стоит поэт, который за известными и ежедневно предвидимыми различиями находит скрытые формы родства вещей, их размытые подобия. Под общепринятыми знаками и невзирая на них он улавливает другую речь, более глубокую, напоминающую о тех временах, когда сквозь универсальное подобие вещей просвечивали слова: Суверенность Тождественного, столь трудная для выражения, затушевывает в его языке различие знаков.
Видимо, этим объясняется непосредственная близость поэзии и безумия в западной культуре нашего времени. Но речь уже не идет о старой платоновской идее вдохновенного бреда. Это примета нового восприятия языка и вещей. На обочинах такого знания, которое разделяет существа, знаки и подобия, безумец, как бы стремясь ограничить его силу, берет на себя функцию гомосемантизма; он собирает воедино все знаки и наделяет их сходством, не перестающим разрастаться. Поэт утверждает обратную функцию; он исполняет аллегорическую роль; взирая на язык знаков, на игру их ясно выраженных различий, он внемлет «иному языку», лишенному слов и внятной речи, языку сходства.
Поэт приближает сходство вплотную к высказывающим его знакам, безумец же все знаки наделяет сходством, которое их, в конце концов, затушевывает. Таким образом, оба они, находясь на внешнем краю нашей культуры и вместе с тем вблизи от ее главных рубежей, оказываются в той «граничной» ситуации — положении маргинальном и глубоко архаических очертаний, — где их слова беспрестанно обретают свою странную силу и возможность оспаривания.
Между ними открывается пространство такого знания, в котором, вследствие принципиального разрыва внутри западного мира, вопрос будет стоять уже не о подобиях, а только о тождествах и различиях.
2. ПОРЯДОК
Нелегко установить статут прерывностей для истории вообще. Без сомнения, еще труднее это сделать для истории мысли. Если речь идет о том, чтобы наметить линию раздела, то в бесконечно подвижной совокупности элементов любая граница может, пожалуй, оказаться лишь произвольным рубежом. Если желательно вычленить период, то возникает вопрос о правомерности установления в двух точках временного потока симметричных разрывов, чтобы выявить между ними какую-то непрерывную и единую систему. Но в таком случае что мотивирует ее возникновение, а затем ее устранение и отбрасывание? Какому режиму функционирования может подчиняться и ее существование, и ее исчезновение? Если она содержит в самой себе принцип своей связности, откуда может появиться посторонний ей элемент, способный отвергнуть ее? Как может мысль отступить перед чем-то другим, чем она сама? И что вообще значит, что какую-то мысль нельзя больше мыслить и что надо принять новую мысль?
Прерывность — то есть то, что иногда всего лишь за несколько лет какая-то культура перестает мыслить на прежний лад и начинает мыслить иначе и иное, — указывает, несомненно, на внешнюю эрозию, на то пространство, которое находится по другую сторону мысли, но в котором тем не менее культура непрестанно мыслила с самого начала. В крайнем случае здесь ставится вопрос об отношении мышления к культуре: как это случилось, что мысль имеет в мире определенную сферу пребывания, что-то вроде места возникновения, и как ей удается повсеместно возникать заново? Но, может быть, постановка этой проблемы пока несвоевременна; вероятно, нужно подождать того момента, когда археология мышления прочнее утвердится, когда она лучше выявит свои возможности в деле прямого и позитивного описания, когда она определит специфические системы и внутренние сцепления, к которым она обращается, и лишь тогда приступать к обследованию мысли, подвергая ее анализу в том направлении, в каком она ускользает от самой себя. Ограничимся же пока концентрацией всех этих прерывностей в том эмпирическом, одновременно очевидном и смутном порядке, в каком они выступают.