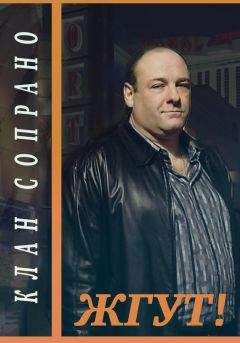Юрий Лотман - Сотворение Карамзина
Но хронологические загадки на этом не кончаются. Согласно «Письмам», путешественник прибыл в Париж 2 апреля 1790, 4 июня того же года Карамзин написал Дмитриеву письмо из Лондона. Если считать, что путь из французской столицы в английскую занимал минимально около четырех дней [117] (Стерн проделал тот же путь в противоположном направлении за две недели), то путешественник пробыл в Париже около двух месяцев. Однако в упомянутом выше автореферате в немецко-французском журнале, примечательном тем, что он, опубликованный анонимно на французском языке в Гамбурге, позволил автору быть более откровенным, чем в русских изданиях, Карамзин писал: «Проведя четыре месяца в Париже (которые ему показались очень короткими) <курсив мой. — Ю. Л.>, наш путешественник пакует свои чемоданы» (455). Нам еще предстоит попытаться определить место этих «пропавших» двух месяцев в Париже в реальном путешествии Карамзина. Пока отметим лишь: предположив, что Кутузов звал Карамзина не в Страсбург, а в Париж, что Карамзин откликнулся на это предложение и что почтовая карета, в которой сидел русский путешественник, выехала из столицы Эльзаса не через южные ворота по базельской дороге, а через западные по парижской, мы сразу получим ответы на ряд вопросов.
Прежде всего, положительно решается вопрос о встрече Карамзина и Кутузова за границей. Попутно мы получаем еще один ответ. Мы знаем, что в момент отъезда Карамзина из Москвы отношения его с Кутузовым можно было охарактеризовать как самую тесную дружбу. Ко времени его возвращения из вояжа, как это видно из их писем, они превратились в холодно-вежливые со стороны Карамзина и обиженно-насмешливые со стороны Кутузова. Если принять версию, согласно которой они за границей не встречались, время, место и причина ссоры остаются необъяснимыми. При противоположной гипотезе эти вопросы легко находят ответы.
Однако необходимо попытаться дать ответ на другой вопрос: в чем причина такой строгой конспирации? Почему Карамзину надо было столь тщательно скрывать следы своего (первого, как мы увидим) пребывания в Париже и встречи там с Кутузовым?
Приезд Кутузова в Париж, как мы знаем, совпал с первыми бурными днями революции: уличные беспорядки, штурм Бастилии, провозглашение Бальи мэром Парижа, а Лафайета — командующим национальной гвардией, самосуд над Фулоном и Бертье. Если Карамзин действительно отправился из Страсбурга в Париж, то он должен был оказаться там около 10 августа: дорога от одного города до другого в почтовой карете занимала пять дней. К этому времени обстоятельства как будто предвещали мирное превращение Франции в умеренную конституционную монархию. 17 июля король приехал в Париж, отвергнув планы придворной камарильи бежать в Мец и формировать там армию для похода на столицу. В ратуше он был восторженно принят, и Бальи — мэр взбунтовавшегося Парижа — поднес ему трехцветную кокарду, которую король, при взрыве энтузиазма, прикрепил к своей шляпе. 8 августа экстренные выпуски газет сообщили, что в итоге заседания, длившегося всю ночь с 4-го на 5 августа, Национальное собрание отменило все феодальные права и привилегии. Феодализм как юридическое понятие перестал существовать. На заседании царила атмосфера энтузиазма. Современникам казалось, что они присутствуют при великом торжестве Разума над Предрассудками, предсказанном философами XVIII века, при рождении нового мира. По очереди на трибуну поднимались представители привилегированных сословий и торжественно отказывались от своих давних прав, которые они именовали вековыми злоупотреблениями. Виконт де Ноай предложил объявить все особые права феодалов навек утратившими силу. Его поддержали герцог д'Эгийон, герцог дю Шатле, маркиз Кюстин, Монморанси, герцог де Монтемар и другие представители высшей знати. Затем на кафедру взошли князья церкви и в свою очередь сложили все церковные привилегии. Александр де-ла-Мотт призвал к равенству католиков и протестантов. Уже занялось утро, когда депутат Лалли-Толлиндаль предложил поднести Людовику XVI титул «восстановителя свободы». Сообщая об этом заседании, журналист газеты «Journal de France» восклицал: «Какая разница между нынешним положением дел и тем, что происходило три недели тому назад, в ночь с 14 на 15 июля!» А английский посол Дорсет доносил своему правительству: «С этого момента мы можем рассматривать Францию как свободную страну, короля как монарха, чьи полномочия ограничены законами, а дворянство как низведенное до уровня нации».
6 августа, в тот день, когда Карамзин прогуливался по улицам Страсбурга, депутаты Франции приняли краткое решение: «Национальное собрание полностью отменяет феодальный режим». Начались прения по проекту конституции. Решение 6 августа было опубликовано газетами в тот день, когда Карамзин, согласно нашему предположению, вступил на мостовую Парижа.
Если Карамзин пробыл в Париже хотя бы неделю, то он мог присутствовать 17 августа на знаменитом заседании, на котором Мирабо сделал доклад о декларации прав человека, выработанной Комитетом пяти.
Легко представить себе, как эта атмосфера могла подействовать на Карамзина. Ведь это было именно то «важное соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью», о котором мечтали они с Петровым, надеясь, «что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума (характерное соединение просветительского оптимизма и кантианской терминологии! — Ю. Л.), начнут исполнять их в точности» [118].
Однако как ни поразительны были эти события для юного москвича, само присутствие в Париже в это время не представляло собой ничего криминального в глазах петербургского правительства. В Париже в это время находилось много русских, и никакого беспокойства, до определенного момента, русские власти по этому поводу не выказывали. До бегства в Варенн, ареста и последующей казни короля Екатерина II была убеждена в том, что «французский развратный пример» не опасен для ее империи. Беды Людовика XVI, которого она не любила, вызывали у нее скорее злорадство, чем сочувствие, а из внутренних неурядиц и ослабления международной роли Франции она надеялась извлечь военно-политические выгоды. В этом смысле скрывать пребывание в Париже в августе 1789 года у Карамзина не было никаких оснований.
Совершенно иначе смотрели в Москве и Петербурге 1791–1792 годов на зарубежные масонские связи. На родине на Карамзина пало подозрение в том, что он ездил и вернулся как масонский эмиссар. Только единодушное свидетельство всех допрошенных, что он ездил вольным вояжёром на свой кошт, спасло его от репрессий, хотя и не избавило от подозрений. Кутузов же, как прикосновенный одновременно и к делу Радищева, и к делу Новикова, и к заграничной дипломатии московских мартинистов, был лицом втройне криминальным. Друзья в письмах настойчиво предупреждали, что ему «по слабости его здоровья» не следует возвращаться в Россию: был известен приказ арестовать его сразу же на границе. Его ждала или Сибирь, как Радищева, или крепость, как Новикова. Эту связь, конечно, надо было скрывать самым тщательным образом. Карамзин получил хороший урок, и позже, уже во время Александра I, когда все гонения на масонов прекратились и, напротив, участие в ложах сделалось великосветской модой, он тщательно зачеркивал в своих письмах к Петрову самые малейшие намеки на причастность к кругу московских мартинистов.
В Париже Карамзин, с одной стороны, и Кутузов и Багрянский — с другой, не только встретились, но и решительно охладели друг к другу. Причину не трудно предположить: Карамзин потерял всякий интерес к масонским делам — парижские события, вероятно, не вызвали энтузиазма у Кутузова. Миссия Кутузова, можно думать, не увенчалась успехом. Он обреченно возвращался в постылый Берлин, где его ждали одиночество и голодная смерть в долговой тюрьме. Багрянский спешил на родину — его ждала камера Шлиссельбургской крепости. Карамзин отправился в Швейцарию.
В ШВЕЙЦАРИИ
Поездка в Париж могла быть только импровизацией, внезапным уклонением от продуманного маршрута. Надо было возвращаться к плану: Швейцария — южная Франция — Париж. Это было необходимо хотя бы потому, что в условленных пунктах его должны были ждать письма и деньги с родины. Более основательное знакомство с Парижем приходилось отложить на будущее — Карамзин отправился в Швейцарию. Когда-то Руссо проделал прогулку из Солера близ Берна до Парижа за две недели. В конце XVIII века дилижанс проделывал этот путь за пять — шесть дней.
Швейцария была в плане путешествия с самого начала. Путешествие, если судить по характеру интересов Карамзина в 1780-е годы, задумывалось как некая дуга с двумя основными точками опоры: Швейцарией и Англией. Первое печатное произведение Карамзина была книжечка «Деревянная нога, швейцарская идиллия гос<подина> Геснера. Переведено с немецкого Никол<аем> Карамз<иным>, СПБ, 1783». А через три года Карамзин издал прозаический перевод поэмы другого швейцарского поэта, Галлера, «О происхождении зла» — теперь уже в Москве, в типографии новиковской Типографической компании. И переписка с Лафатером, и интерес к «Вильгельму Теллю» Шиллера — все это рисует постоянный и устойчивый интерес к Швейцарии. Швейцария и Англия как бы олицетворяли для Карамзина две возможности развития человечества, между которыми колебались симпатии Карамзина в то время, когда он готовился к путешествию. Швейцария рисовалась в тонах поэмы Галлера «Альпы» как патриархальная идиллия, а сочинения Руссо и Шиллера придали этим представлениям окраску гордого свободолюбия. В «Письмах» Карамзин отметил свой приезд в Швейцарию такими словами: «И так я уже в Швейцарии, в стране живописной Натуры, в земле свободы и благополучия! (в первой журнальной редакции было «свободы и щастия», в дальнейшем Карамзин, видимо, из цензурных соображений убрал «свободу»: «в земле тишины и благополучия», «в земле мира и щастия», но с наступлением более спокойных времен «свободу» восстановил; правда, теперь он уже сомневался в возможности счастья где бы то ни было и заменил его скептическим «благополучием». — Ю. Л.). Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверх, и я с гордостию помышляю о своем человечестве» (т. е. о достоинстве человека; последние слова в промежуточном издании были убраны! — Ю. Л.) (97, 425).