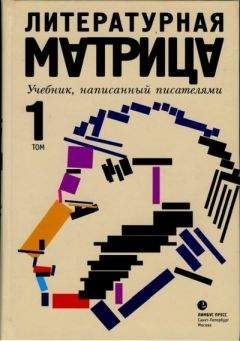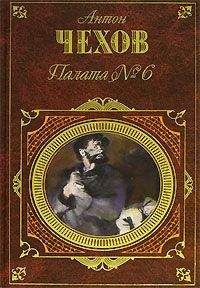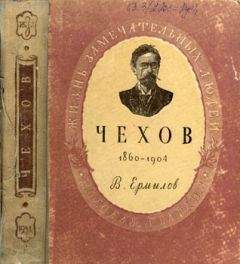Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2
Отдельно стоит сказать о драме «На дне». В русской литературе есть два бесспорных шедевра, вдохновленных не столько даже полемикой с Толстым, сколько личным раздражением против него (при том, что оба автора, и Горький, и Чехов, ставили его как художника бесконечно выше всех — и уж явно выше себя, — а смерти его боялись, как утраты отца, а может, и как утраты Бога, о чем прямо говорили). Речь о «Палате номер шесть» и о пресловутой «ночлежной» пьесе Горького, которая была, пожалуй, даже актом личной мести: первый эскиз пьесы — в которой еще не было никакого Луки, а просто люди дна сначала мучили друг друга в ночлежке, а потом с первым днем весны расцветали и умилялись, — вызвал у Толстого раздражение и непонимание. Зачем на этом фиксироваться, на это смотреть?! Тогда Горький ввел в пьесу «утешителя» — опытного, хитрого старичка, странника Луку, который, по собственному его определению, «утешает, чтобы не тревожили покоя ко всему притерпевшейся холодной души». Такой — холодной и всезнающей — считал Горький душу Толстого, и проповедь его — не столько утешительскую, сколько примирявшую с жизнью — объявлял рабской по сути, лживой, отвлекающей человека от истины и борьбы. В Луке есть толстовские черты — афористичность, лукавство (отсюда и имя), убедительность проповеди, даже, пожалуй, и человечность, ибо ему жалко и Актера, и больную Анну; Лука отважно и весело унижает власть, бесстрашно спорит с нею («Земля-то не вся в твоем участке поместилась, осталось маленько и опричь его») — и вообще он, как и Толстой в изображении Горького, похож не то на хитроватого селянина, не то на древнее языческое божество, маленькое, кроткое с виду, но сильное. Однако проповедь Луки, по мысли Горького, никуда не годится, и он противопоставляет ему Сатина — падшего ангела, просвещенного Челкаша. Сама эта схема сегодня мало кого волнует, но она продуцирует несколько сильных драматургических ходов; мастерство Горького-драматурга здесь особенно очевидно — между Лукой и Сатиным происходит в пьесе всего один незначащий обмен репликами; главные оппоненты не разговаривают, не спорят, практически не пересекаются, спор их — заочный. Удачны тут и прочие персонажи — особенно Бубнов с его отчаянной (и рушащейся в финале) надеждой покинуть «дно». Что до прочих пьес Горького, среди них особенно удачен «Старик» — мрачная, с элементами готики история запоздалого мстителя: тут ярко выведен ненавистный Горькому тип человека, носящегося со своим страданием, уважающего себя именно за него, — сам он отнюдь не думал, что страдания следует носить как медаль, и скорее стыдился негативного опыта, хотя, думается, и себя подчас ловил на преувеличении собственных бедствий и в образе Старика, одержимого местью, отчасти сводил счеты с собой. Эта пьеса увлекательна и остра, есть в ней напряжение и копящийся ужас, но тут как раз не оказалось спасительного «доворота» — фабула разрешается искусственно и преждевременно; думается, он бы еще вернулся к этой идее. Хорош также «Егор Булычов и другие» — сильная пьеса об умирании, об одинокой и трагически мощной фигуре, отважно не желающей мириться с общей участью. Вчитывать в эту вещь классовые мотивы — насчет обреченности российского уклада, насчет революционных перемен и т. д. — не стоит: это попытка свести счеты с собственной смертью. Не зря Горькому незадолго до смерти представлялось, что он «спорит с Богом». О том, насколько плодотворен этот спор, — можно дискутировать, но стоит помнить фразу Ренана о хуле мыслителя, которая угоднее Богу, чем корыстная молитва пошляка.
Разумеется, Горький — писатель не для всех и, более того, для немногих. Но если есть в русской литературе рассказ, который стоило бы рекомендовать всем, рассказ сильный, подлинно великий и в высшей степени душеполезный — то это «Мамаша Кемских», страшный и трагический гимн материнству. Эти три странички гарантировали бы Горькому бессмертие, даже если бы он не написал ничего другого. Этот текст — наряду с «Отшельником», «Караморой», очерком «Страсти-мордасти» и несколькими главами «Самгина» — обеспечит Горькому благодарных читателей даже тогда, когда идейные споры вокруг него затихнут и уйдут в прошлое. Впрочем, учитывая цикличность русской истории, полное их утихание ему тоже не грозит.
Всеволод Емелин
В ОЖИДАНИИ ВОЗМЕЗДИЯ
Александр Александрович Блок (1880–1921)
Посмертная судьба книг Александра Блока оказалась чрезвычайно запутанной, даже на фоне судеб книг большинства его современников.
Например, стихи Гумилева и Мандельштама, уничтоженные советской властью, были банально запрещены. В школе их не проходили, подавляющее большинство населения не догадывались об их существовании, а литературно озабоченная и антисоветски настроенная интеллигенция передавала друг другу мутные машинописные копии их произведений и считала этих авторов гениями.
В схожем положении находились чрезвычайно неполно издаваемые в СССР Цветаева, Ахматова и Пастернак. «Ах, вы знаете, что у Цветаевой есть „Лебединый стан“, прославляющий Белую гвардию? Божественные стихи! Я вам дам на одну ночь! А у Ахматовой есть запрещенный цикл „Реквием“. О сталинских репрессиях! Это потрясающе! А Пастернак отказался от Нобелевской премии! Ему ее дали за великий роман. Я вам достану! Там духовные стихотворения! Про Христа! Только никому!»
Широко издаваемый и преподаваемый Маяковский у людей попроще вызывал отторжение корявостью формы, низостью предметов описания и назойливостью, с которой его впаривали в учебных заведениях и СМИ. Интеллектуалы вздыхали: «Ах, как хороши, как свежи были ранние стихи Маяковского и до какой пакости он дописался, продавшись кровавому режиму! Хотя вольно ж ему было „наступать на горло собственной песне“. Певец революции, понимаешь. Вот и допелся».
Был еще любимец народа «Сережа» Есенин. Его стихи знали наизусть, читали в пивных и вагонах. Пели со слезой. Однако продвинутые стихрлюбы морщили нос: «Так, подражательный стихотворец второго ряда, для шоферов».
На этом пестром фоне своих младших современников (старшие вообще казались малоинтересными) Блок выглядел крайне загадочно. Вроде типичный символист с «несказанными звуками» и «неначертанными знаками» — но готовый вдруг, двумя строчками, превратить всю эту напыщенную мистерию в идиотскую клоунаду. Поэт, в одних произведениях воспевающий Россию, используя самые возвышенные образы, — а в других буквально аннигилирующий[61] этот высокий штиль картинами кособокой болотной нечисти, тоже вполне русской и народной. Писавший о своей принадлежности прежде всего к западноевропейской культуре — и грозивший этой культуре в своих текстах полным и беспощадным уничтожением. Писавший стихи-«ужастики» — и стихи, которые сейчас вполне могли бы проходить по ведомству «русского шансона». Восхищавшийся самыми дремучими углами и самыми мрачными народными поверьями — и едва ли не первым воспевший стремительную капиталистическую индустриализацию начала XX века. Знавший безумный успех при жизни — и до сих пор остающийся непрочитанным, непонятым, не-полюбленным (еще Маяковский удивлялся, что вот, мол, Есенина трудящиеся любят, так как у него про вино и про Россию, а у Блока тоже про вино и про Россию, только лучше, — но его не любят).
Власть, не пошевельнувшая пальцем, чтобы спасти Блока от мучительной смерти, в дальнейшем включила его в школьную программу и провозгласила одним из своих классиков. Великую и кошмарную поэму «Двенадцать» (и почему-то «Скифов», до кучи) внесли в святцы соцреализма. Добавили, для патриотизма, стихи о России (какие попроще). Жутковатую «Незнакомку» позиционировали как любовную лирику. Ну и «Стихи о Прекрасной Даме» — как пример духа времени, декаданса, преодоленного Блоком впоследствии, когда он встал на сторону революционных масс.
Этим интерес к поэту был убит окончательно. Ишь ты, призывал всех «слушать музыку революции», а сам взял да и помер. А у нас эта музыка семьдесят лет в ушах гремела. Отсюда сохранившееся до сих пор брезгливое отношение к Блоку, ярко выразившееся в презрительном определении Иосифа Бродского: «бледный исцелитель курсисток русских».[62]
Плюс невнятная биография поэта, который, как, наверное, никто другой, ухитрился уничтожить границу между поэзией и жизнью. И которому поэзия жестоко отомстила, сожрав его жизнь без остатка. Блок оказался достойным персонажем и создателем великого русского литературного мифа о поэте-титане, ходящем по краю бездны, уничтожающем самого себя ради волшебной музыки строк, вполне на своем месте в легендарном ряду: Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева, Высоцкий…
А в реальности школьники и школьницы из читающих семей в пятнадцать лет зачитывались блоковской лирикой, но дальше натыкались на Мандельштама с Цветаевой и забрасывали официозного поэта за шкаф. Советские литературоведы Блоком благоразумно не занимались, прекрасно понимая, какие чудовища могут вырваться на свет, если глубоко копать в этом направлении. Диссиденствующие филологи и западные слависты также предпочитали заниматься Пастернаком, Мандельштамом, Цветаевой и Ахматовой. Продолжают и сейчас, ибо, как известно, сначала спрос формирует предложение, а потом предложение навязывает спрос.