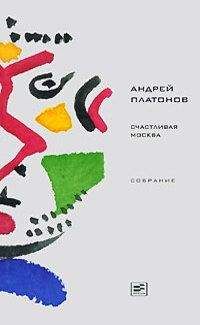Ольга Ладохина - Филологический роман: фантом или реальность русской литературы XX века?
В романе «Б.Б. и др.» А. Найман обнажает по-постмодернистски заимствованный у Пушкина в «Повестях Белкина» прием создания своеобразного «буфера» между автором и читателем, введя в качестве рассказчика жизни главного героя некого А. Германцева. В самом начале произведения такой подход обосновывается необходимостью некоторой отстраненности от Б.Б. и, стало быть, большей объективности в изложении событий: «Сейчас он уговорил меня рассказать о Б.Б., объясняя это тем, что фигура его общеинтересна, что мы знали его одинаково близко, но что между ними двумя связь не прервалась до сих пор, и это, начни он писать о нем, будет его сковывать» [14: 5].
Но не только создание предпосылок для беспристрастного изложения событий было целью автора. Остроумно применяемый им литературный прием позволяет показать главного героя как бы в двух ракурсах («с двух камер» – как сказал бы современный кинорежиссер). Вот А. Германцев пишет статью в научный журнал, в которой сообщает, что некто Н.Н. (читай Б.Б.) «…столбил несколько участков в разных областях или уходил, хотя и не бросая возделывания научных грядок, на вольные хлеба, в риск… например, в букинистический и коллекционный бизнес, который у нас всегда предприятие полуподпольное-полуразбойное…» [14: 190]. И сразу же – жесткий отпор со стороны «товарищей по цеху», ну и, конечно, самого «оклеветанного» Б.Б., причем (вот уже совсем неожиданный пируэт автора), в союзники главный герой берет самого…(!) Наймана: «Через день я получил от него первое письмо: ксерокс кансоны Пейре Видаля против клеветников в переводе Наймана» [14: 192].
Серьезная размолвка между Германцевым и Б.Б., казалось бы, должна была повлечь за собой окончание романа, но нет – эстафету подхватывает сам Найман. Германцев сообщает читателям, что «всё, что я теперь про него знал, доходило от Наймана: сердечный маятник Б.Б. как будто откачнуло от меня к нему» [14: 193]. Образ Б.Б. освещается теперь читателям с точки зрения Наймана; и взгляд этот более снисходительный, более терпимый: «По Найману, выходило, что астральный, или какой он там был, маятник Б.Б. повело от непосредственного взаимодействия с людьми к энергетическому» [14: 194].
Разница в подходах к восприятию Б.Б. приводит к заметному охлаждению взаимоотношений между Германцевым и Найманом. Но уже в следующем эпизоде философствования Наймана о сложной судьбе главного героя («У тебя нет такого чувства, что он откуда-то вернулся, где мы с ним вместе никогда не были, да и сам он, пожалуй, никогда не был?..» [14: 213]) неожиданно находят доброжелательный отклик Германцева: «Вот вам Найман: в который раз произносит что-то вот этакое вместо меня. И кто тут чей двойник, кто кого alter ego: я его, он мое – все равно, я не против ни того, ни этого, я “за”» [14: 214].
Чтобы в сознании читателя образ «нанятого повествователя» совсем уж не слился с образом самого автора (что никак не вписывалось бы в решаемые писателем художественные задачи), Найман приводит сетования Германцева на свою нелегкую литературную судьбу, переходящие в прямой выпад против своего «создателя»: «… после такого долгого периода такого временами интенсивного общения я и сам не знаю, что я сказал, что он, что мое, что его, и если предположить, что он все-таки использует меня для своих целей как буфер, то, замечу, действительно примитивно, гораздо примитивнее, чем Пушкин Белкина» [14: 161].
Но ни этот мастерски разыгранный писателем «бунт на корабле», ни другие эпизоды, в которых видны различные подходы Германцева и Наймана к пониманию характера главного героя, не скроют основной философский смысл романа: жизнь настолько разнообразна, что мерить одним аршином каждого – не только непозволительная роскошь, но и серьезное заблуждение. В этом и «повествователь», и автор едины: «…от начала, от дней творения жизни известно, что кому хорошо, что плохо, этому – это, а другому прямо наоборот, а ни этот, ни другой ничего про себя не знают и знать не могут, и, например, то, от чего Наймана и меня в Б.Б. с души воротит, то Б.Б. с его уникальной конституцией, с установкой органов восприятия на зеркальность, с огнеупорной задницей и челюстями, которые не берет кариес, – спасение, причем единственное» [14: 189].
Необходимо отметить, что одна из отличительных особенностей филологического романа – намеренное раскрытие авторами литературных приемов, секретов творческой лаборатории художника, что проявилось уже в русской филологической прозе 20-х – 40-х годов XX века, в том числе в произведениях В. Шкловского, В. Каверина, К. Вагинова, В. Набокова и др.
Еще М. Бахтин отмечал как одну из закономерностей литературного развития XX века индивидуальную казуальность: возросло значение автора как самоценного творческого сознания, способного создать свой собственный художественный мир.
Глава 3. Художественное своеобразие жанра филологического романа
Мотивный спектр филологических романов
Целью поэтики является выделение и систематизация репертуара приемов (эстетически действенных элементов), которые участвуют в формировании эстетических впечатлений от произведения. В предыдущих главах уже рассматривалась проблема жанра филологического романа, его эволюция, проблема «герой – автор», связанная со структурой произведения, художественная концепция героя как творческой личности. В данной главе будет обращено внимание на мотивы, к которым обращался создатель филологических романов – устойчивый формально – созерцательный компонент литературного текста, которые могут быть выделены в пределах одного или нескольких произведений одного писателя, или какого-либо литературного направления, например, постмодернизма.
«Мотив более прямо, чем другие компоненты художественной формы, соотносятся с миром авторских мыслей и чувств, но в отличие от них лишен относительной «самостоятельной» образности, эстетической завершенности: только в процессе конкретного анализа «движения» мотива, в выявлении устойчивости и индивидуальности его смыслового понятия он обретает свое художественное значение и ценность» [169: 230]. Кроме того, анализируются приемы (например, прием игры), интертекстуальные приемы, используемые создателями филологических романов, а также эксперименты со словом, столь привлекающие писателей-постмодернистов.
В филологических романах постмодернистского направления можно выделить ряд мотивов: это, прежде всего, мотивы детства, памяти, творчества, свободы художника и др. В их контексте эти мотивы находятся в неразрывной взаимосвязи, позволяя показать истоки креативной энергетики основных персонажей, психологические особенности самого процесса творчества, влияние на эти процессы внешних факторов.
Несмотря на существенные различия в сюжетных конструкциях анализируемых произведений, в спектрах рассматриваемых проблем, наборе основных персонажей, вышеупомянутые мотивы являются теми элементами тематического единства, которые позволяют говорить о тесной внутренней взаимосвязи этих романов. В этом отношении близка точка зрения Б.В. Томашевского, который отмечал, что в сравнительном изучении литературных произведений мотивом называют тематическое единство, встречающееся в различных произведениях. Такие мотивы, по словам исследователя, переходят из одного сюжетного построения в другое. В сравнительной поэтике они могут разлагаться на более мелкие мотивы. Самое главное то, что в пределах данного изучаемого жанра эти мотивы всегда встречаются в целостном виде. По мнению А.Н. Веселовского, «признак мотива – его образный одночленный схематизм» [48: 499]. С учетом этого, комбинация мотивов составляет сюжет произведения, и если каждый мотив играет определенную роль, то ведущий мотив можно определить как лейтмотив всего произведения. В современном литературоведении художественная система произведения рассматривается с точки зрения лейтмотивного построения. В филологических романах – это мотив детства, памяти, творчества.
Мотив детства (а также элементы ассоциативного ряда: «чистота», «искренность», «мечтательность») в филологических романах является лейтмотивным не случайно. Именно в детстве и отрочестве закладываются основы творческой личности, яркие детские впечатления и юношеские мечты во многом определяют потребности и способности будущего художника слова выразить на бумаге свое восприятие мира и людей и мира. В детстве порой следует искать и истоки противоречий в творчестве зрелого художника.
В разнообразных аспектах рассматривается мотив детства в «Пушкинском Доме» А. Битова. Писатель дает понять, порой с ироничными нотками, что детство главного героя – Левы Одоевцева, будущего ученого-филолога, – было классическим детством мальчика, выросшего в среде научной интеллигенции, с обязательным набором ранних поэтических впечатлений, пришедшихся на годы Великой Отечественной войны, детского восхищения героями прочитанных книг, юношеских мечтаний о науке и славе: «У Левы – детство. Во всяком случае, раннего детства он не лишен, оно классично, оно может быть переплетено» [4: 174]; «…из всего этого можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной драмы, даже придать этой атмосфере плотность, насытить ее поэтическими испарениями босоногости, пятен света и запахов, трав и стрекоз…» [4: 90]; «удивление, столь наивное, перед человеком, который написал то, что ты читал с восхищением в детстве, превышало Левину профессиональную опытность…» [4: 435]; «…поступив в университет, Лева вроде бы приблизился к своей детской мечте о науке…» [4: 94].
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/161891/161891.jpg)
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/162449/162449.jpg)
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/161769/161769.jpg)