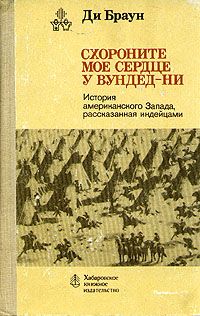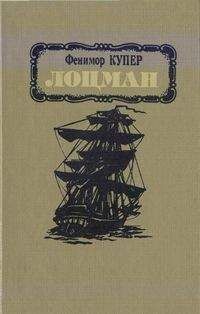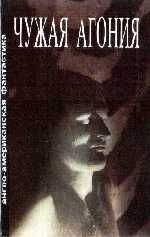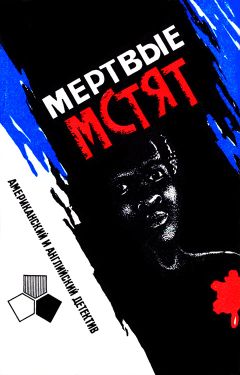Елена Айзенштейн - Из моей тридевятой страны
Стихами о Христе-младенце он писал картину своего – и всечеловеческого семейного счастья. Это было его последнее Рождество.
2011«Поэзия, следи за пустяком…»
Александр Кушнер
29 июня 2001 года. Книжная ярмарка на Манежной площади. Брожу вдоль рядов с книжками. Много участников, мало посетителей. Объявление по радио о встрече с поэтом Александром Кушнером. Иду по направлению к указанному издательству, думая найти толпу почитателей. Наверное, поэт будет читать стихи? Стоит сконфуженный Кушнер, рядом с ним – довольный и уверенный в себе издатель. Столик с книжками издательства «Прогресс-Плеяда».51 И – ни души. Огорчаясь за поэта, чувствуя его смущение (стоит и ждет, когда кто-нибудь купит его книжку, даже не ждет, а просто вынужден стоять здесь из-за выдумки устроителей ярмарки), покупаю прекрасно, кстати сказать, изданную книжку. Издатель – — мне: «А теперь надо взять автограф у автора». Кушнер, стесняясь, как школьник, как автор, который издал первую в жизни книгу: «Но может, человеку совсем не нужно?!» Я, никогда не берущая автографов, сознавая всю ложность ситуации для поэта: «Ну почему же?» Кушнер надписывает книжку. 52У него удивительно светлый и даже лучистый взгляд и прекрасная улыбка.
Знакомлюсь с новым сборником поэта. В книгу вошли стихи Кушнера из двенадцати книг за четыре десятилетия. Поэт мысленно назвал его «Decima». Кушнер – очень цельный поэт. Можно сказать, да не обидится на это автор, что он практически не менялся за сорок лет творческой судьбы. Я имею в виду верность Кушнера тому, что составляет для него предмет и сущность поэзии: «Поэзия, следи за пустяком, / Сперва за пустяком, потом за смыслом»53. Во внимании к пустякам, в интересе к незначительным, с точки зрения обывателя и не поэта, вещам – весь Кушнер. Нисколько не стесняясь, он отождествляет себя с рюмочкой в шкафу: «Я – чокнутый, как рюмочка в шкафу / Надтреснутая!» Для него – «вода в графине – чудо из чудес»; паучок на балконе, трудящийся над паутинкой, – почти брат. Подобно паучку, сам поэт – «бесполезное» и беззащитное существо, наводящее «оптический чудный прицел» на неприметные черты быта. Автор воспевает велосипедные прогулки, «холмистый, путаный, сквозной» Павловский парк и «голос в трубке телефонной», ночную бабочку, уснувшую на лацкане пиджака, и свою мечту о письме любимой женщины. Предметы, божества поэзии замечаются всюду. Кушнеру дороги все земные явления, и он боязливо сетует на то, что «в раю, увы, едва ли / Бывает дождь». Для него любое посмертие печально, оттого что жизнь ему представляется необыкновенно прекрасной: «…куда бы ни попали / Мы после смерти, будет как зимой: / Звук отменен, завален тишиной». Если вспомнить цветаевскую мысль об иерархии небес, то Кушнер, безусловно, живет не выше первых. Он любит землю и поэтизирует именно то, что видит внизу. Поэт «не отдаст недуг сердечный», способность восхищаться миром, страдать от желания выразить его прелесть, тосковать и горевать по вполне повседневным поводам, «страх за ближнего, дрожь и смятенье» за мир нечеловеческий – мир вечного мая, цветения и бесстрастия:
Он и не мыслит счастья без примет
Топографических, неотразимых.
Душа у Кушнера не только «тучка, ласточка», но и «вся – дрожь, вся жар она, вся – бред». Поэт считает себя вполне мирским существом, родственным людям, а вовсе не ангелам, от которых в недоумении отворачивается:
Она на пальцах у меня,
На животе, на языке,
И ангелы мне не родня!
И там, где влажного огня
Мне не сдержать, и на щеке.
Несмотря на эту близость дольнему, он восклицает:
Поэзия – явление иной,
Прекрасной жизни где-то по соседству
С привычной нам, земной.
Искусство рождается там, где меньше всего мешает «взгляд державы», то есть ближе к природе, к бабочкам и осам, в траве, под ногами. Музыкой должно стать то, что бесполезно прекрасно. Искусство – своеобразный щит, которым Кушнер заслоняется от несообразностей эпохи и страны, в которой живет.
«Не так ли мы стихов не чувствуем порой, / Как запаха цветов не чувствуем?» – спрашивает поэт. По мнению Кушнера, «все знанье о стихах – в руках пяти-шести, быть может, десяти людей на свете». Все знанье о стихах – в руках поэтов, а не критиков. Себя Кушнер видит в ряду этих знатоков. Ему обидно за читательское незнание любимого Батюшкова, и в то же время он не хочет разглашать тайну: «Тверди, но про себя его лазурный стих, / Не отмыкай ларца, не раскрывай копилки».
Отношение к Богу у Кушнера несколько изменилось в течение жизни. В шестидесятые он гневно отрекался от Бога, допускающего убийство детей: «Один возможен был бы бог, / Идущий в газовые печи / С детьми, под зло подставив плечи, / Как старый польский педагог». Позднее полное неприятие «вашего бога» сменилось пониманием творчества, добра и красоты Божьими приметами. Нынешний А. Кушнер ощущает Бога через любимые в жизни явления: «Я рай представляю как подъезд к Судаку». В одном из лучших стихотворений книги «По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам…» Кушнер рисует свое восхождение в иной мир «за милою тенью» через воспоминание о земле, на которой побывал ребенком:
Монтрей или Кембридж? Кому что припомнить дано.
Я ахну, я всхлипну, я вспомню деревню Межно
Куда с детским садом в три года меня привезли, —
С тех пор я не видел нежней и блаженней земли.
Для него Бог «не в церкви грубой», а «над строкой любимого стиха, и в скверике под вязом». Обретение Бога, по Кушнеру, возможно в сочувствии и сотворчестве. Человечество лепит Бога своими делами. Поэт убежден, что душа – это «то, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде». Стихи – такой возврат поэта если не Богу, то родной Земле.
Мысль о посмертии сопряжена у Кушнера с надеждой на встречу с душами любимых им художников, мыслителей, обыкновенных людей:
Нет ли Бога, есть ли Он, – узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, – за краем.
Нас устроят оба варианта
Кому-то из читателей такой «заземленный» взгляд поэта может оказаться не по душе. Но на всех не угодишь, а Кушнер меньше всего думает о каких-то канонах в этой области. Он настолько любит жизнь, что требует от иного мира наличия всего дорогого ему, узнанного на земле. Ему нужны в вечных рощах грибные дожди, и «мята, и мед, и, наверное, горе и мгла», нужна полнота душевного бытия в скорби и в радости.
Кушнер размышляет о своем месте в современной поэзии. Ему претит роль классика, он не желает «стоять на шкафу бессмысленным бюстом, топорща ключицы»; с иронией наблюдает, как иным «хочется под потолок». Мысли о возможной славе не соблазняют поэта:
О слава, ты также прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
– Уже и не надо. Не стоит. Прощай!
И все же не может не думать о подведении итогов. Что останется в грядущем от его творческого труда? «Памятником» Кушнера звучит стихотворение «Там, где весна, весна, всегда весна, где склон…». Поэт с чуть заметной иронией думает о том, какую премию присудит ему бог поэтов. Своей заслугой Кушнер называет «не похожие ни на кого мотивы», самобытный взгляд на мир и то, что он сумел воспеть, вопреки хищному веку, «скатерть белую … с узором призрачным, как водяные знаки» – зыбкую красоту, чья ценность заметна только при разглядывании с пристрастием. Кушнер дорожит художнической независимостью, видит своей творческой заслугой верность тому, что не весит:
…музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за низачто,
За je vous aime, ich liebe.
В последнем стихотворении сборника Кушнер, одаренный способностью писать о любви к тому, что, как вода, убегает сквозь решето повседневности, с грустью замечает, что стихи – «архаика», что на смену поэзии пришла проза. Так ли это? Действительно ли третье тысячелетие не соединимо «с ямбами»? Хочется верить, что прозе жизни никогда не победить поэтического взгляда на мир, тех милых пустяков, из которых слагается «песня, одетая в дрожь».54
2001«Тот, кто бился с Иаковом…»
О стихотворении Елены Шварц «Воробей»
Стихотворение Е. Шварц «Воробей» впервые было опубликовано в сборнике в 1982 году «Корабль».55 В этих стихах Елена Шварц пытается говорить на языке библейского мифа о человеке и его взаимоотношениях с Богом и вспоминает главу из «Бытия» (32; 23—32), о поединке с Богом Иакова. Стихотворение разделено на две части. В первой части лирическая героиня вызывает Бога на поединок: