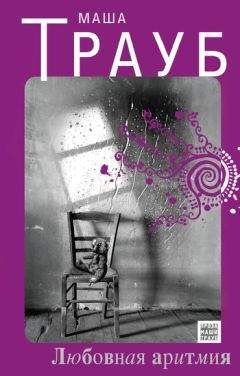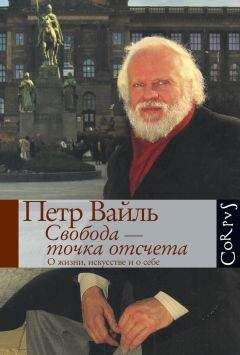Петр Вайль - Карта родины
В нормальных условиях разрыв восполняется частной жизнью, ее убедительной разумностью и необременительным ритмом. На это работают и логичные экономические законы: лучше трудишься — больше получаешь и удобнее живешь. Священник или психиатр тоже помогают упорядочить эмоциональный и нравственный опыт. Главный же стержень — «свое», прежде всего «свое» материальное: собственность. Тот стержень, на который можно накручивать уверенность в будущем, а значит, и в настоящем.
Советский Маленький Человек всех таких опор был лишен. Идея собственности даже не чужда, а просто незнакома. Так эмигрантские дети плохо говорят по-русски не только по безразличию родителей, но и оттого, что целый пласт понятий входит в их сознание на ином языке.
Чем заполнять провал? Мифологией, демонологией, а в ежедневной жизни примыканием к большому. Этому искусу поддались и самые талантливые:
Пастернак, Олеша, Заболоцкий, Зощенко, Мандельштам. Смирение малого перед большим, младшего перед взрослым. Советская культура по преимуществу — подростковая, детская, младенческая. Ориентация на архетип младенца проявлялась разнообразно: бездомность (одна колыбель, и та революции), нагота (не нищета, а антивещественность), бесполость (антиэротизм).
Но как слова «я человек маленький» произносятся с расчетом на прямо противоположное впечатление, так Маленький Человек в своей малости не признавался, да и не осознавал ее. Осознали опять-таки писатели, разочаровавшиеся в любимом герое.
Сколько же разочарований надо было пережить, сколько даров принять, сколько ударов перенести, скольким искушениям поддаться, чтобы оторваться от традиции. Чтобы перестали персонажам сниться алюминиевые дворцы и великие вожди (в этом смысле Чернышевский и Павленко современники), чтобы сон не отличался ни красотой ни масштабом от яви, а совпадал с ней, как у Сергея Гандлевского:
Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране
Приспособить какую-то важную доску к сараю.
Приспособить вряд ли удастся — очень уж длинна страна. Чудно назначают свидания в русской словесности: «в старом парке как стемнеет». И парк на гектары, и темнеет не враз. Пространства и времени полно — ведь это главное, а не встретиться. Тем более, не доску прибить. Может, оттого
…в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.
У Иосифа Бродского — нет почтительности к масштабам, своя малость по сравнению со страной вызывает лишь грустную усмешку изгнанника:
Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало; пустяк: дыра — но небольшая.
Ее затянут мох или пучки лишая, гармонии тонов и проч. не нарушая
Обмен комфорта примыкания на неуют свободы произошел добровольно и осознанно:
Усталый раб — из той породы, что зрим все чаще — под занавес глотнул свободы.
Она послаще любви, привязанности, веры
(креста, овала), поскольку и до нашей эры существовала.
Обмен произошел — самое важное! — сугубо индивидуально, то есть аристократически, что уж совсем далеко от Маленького Человека. Как же нужно было отойти от него, чтобы рассмотреть со стороны (в микроскоп? в телескоп?) и ужаснуться. XX век в страхе и трепете испытал с помощью Гитлера и Сталина, каков на практике теоретически описанный Ортегой «человек массы». Российская практика оказалась наиболее долгой и действенной. Как зверски, с мясом надо было оторвать традицию, чтобы проникнуться к Маленькому Человеку не сочувствием, но отвращением: «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые… Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…»
Свирепая ирония Венедикта Ерофеева многократно перекрывает леонтьевское раздражение от «пиджачной цивилизации средних, сереньких людей». Но и слова из «Москва-Петушки» кажутся умильными по сравнению с ерофеевской же дневниковой записью: «Мне ненавистен простой человек, т.е. ненавистен постоянно и глубоко, противен в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его „простота“, наконец».
«Простота» тут в кавычках — от ненависти, но это и явный отсыл к поговорке о простоте хуже воровства. Маленький Человек не стал Юлием Цезарем, на что была надежда, пока он сохранялся в словесности. А перейдя в жизнь, он проявил себя таким, каким и был, — маленьким. Настолько, что не заметил исторических катаклизмов, обозначив их универсальным выражением второго fin de sicl'а: «без разницы».
Разница между Маленьким Человеком и частным принципиальна для литературы и жизни. Маленький Человек — это народ в «Борисе Годунове», который равно безмолвствует в ответ и на слова «Мы видели их мертвые трупы», и на слова «Да здравствует царь!…».
Частный человек восходит, увы, к Простаковым. «Увы» — потому что частная жизнь находилась в таком небрежении, что обычно школьной трактовкой митрофановской родни и исчерпывалась. За насмешками не замечали, что Простаковы независимы, самобытны и заняты своим делом. Оттого, при всей их дурости, им вовсе не безразлично, что происходит вокруг, оттого они помеха обществу и на них обрушивается государственная карательная машина, как Медный Всадник на Евгения, а не заедает среда. Во-первых, они сами заесть могут, а в-главных, они и есть — среда. Соль земли, а не пыль ее.
Девиз Маленького Человека — слова не гоголевского чиновника «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?», над которыми лили слезы лучшие люди России, а чеховского мужика «Жили мы без моста». Впрочем, если вдуматься, это одно и то же.
«Посмотри, что за лица! Даты вглядись в них. Раньше были иные! Чем объяснить?» — вопль Бунина в 1919 году. Да только тем и объяснить, что раньше не вглядывались, потому что вчитывались. Думали, что они Башмачкины, а они башмачкиными и были.
А кто вглядывался, видел: «Нынешнее время — это время золотой средины и бесчувствия, страсти к невежеству лени, неспособности к делу и потребности всего готового… Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России, все живут только бы с них достало…». О каком это «нынешнем» времени пишет Достоевский? О нынешнем?
Несовпадение масштабов человека и событий: 17-го, 91-го. Муравьи тащат свои стройматериалы, не зная о грохочущих над ними великих войнах. Тараканы переживают Хиросиму. Грибы только проворнее размножаются под Чернобылем. В разнице масштабов — физическое спасение. Душевное тоже: когда не знаешь или не замечаешь, то и не беспокоишься. Но, хотелось бы думать, человек создан и существует не только для того, чтобы уцелеть. Может, высший смысл как раз в уязвимости: для горестей, но и для радостей? Есть даже надежда, что оставленный один на один с собой в одиночестве Маленький Человек подрастет до частного человека. Тогда смены эпох будут проходить на его фоне, а не на фоне отдельно взятой страны, распростершей крыла над XX усеченным столетием. Русская поговорка: каковы fin'ы, таков и siecle.
Не столь уж многого хочется: чтобы век состоял из ста лет. Чтобы ничто не сбивало со счету. Уж на что некомфортабельно жил Робинзон Крузо, но ему не мешали и он не сбивался, делая свои зарубки. Штольц все теребит: пойдем да пойдем, путевка обкома, небо в алмазах, вас ждут великие дела. Кто виноват, что делать нечего? Ведь все на благо человека, но единственный человек, на чье благо есть охота и резон встать с дивана, — тот, который отразится в самоваре. Сам.
Вглядываясь в человека ушедшего XX века, можно попытаться что-то понять. Попробовать свести концы ущербного столетия, испытавшего на прочность все идеи, очертившего новые человеческие параметры. Разумеется, доскональных ответов нет и быть не может, и слава Богу, что не может. И без того невесело сознавать, что это не частный человек с готовностью принял умопомрачительные перемены, а маленький, воспетый в нашей великой литературе и расцветший в безликой жизни. В силу такого его масштаба — малого, мелкого — и стали возможны потрясения, их цепь, их череда, процесс потрясений.
Частный человек — большой, то есть какой надо, себе в рост. Как раз между Юлием Цезарем и чернобыльским грибом, между зияющей вершиной и горней бездной. Он вряд ли знает, кто виноват, но имеет представление, что делать.
Если он возьмется за перо, то сочинит скорее банальный годовой отчет, а не гениальную повесть безвременных лет. Он вообще больше по части не букв, а цифр, и с ним есть шанс, что о наступлении новых веков можно будет узнать не по канонаде, а по календарю.
В каюте «Нерки», отчалившей с Соловков на Кемь, — туристы и богомольцы. Неистребимо партийного вида мужчина говорит послушнику в штопаной рясе: «Здесь все-таки хорошо, просто просветляешься весь, и дешево. Я вот был в прошлом году в Кении, на сафари. Ты поверишь, там шаг шагнешь пятьдесят долларов. Еще шаг — еще пятьдесят долларов». Послушник кивает: «Трудно-то как». Разговор заходит о тяготах жизни. «Вот я покрасил стены в подъезде, сам, за свой счет, — рассказывает пожилой пассажир. — И что выдумаете, на следующий день все исписано». Женщина с пестрой книгой подхватывает: «Это кошмар, отчужденность в современном мире, настоящая болезнь». Партийный присоединяется: «Я в молодости в Музей изобразительных искусств раз в две недели ходил, прямо чесотка начиналась, как не схожу, а эти? Пожилой добавляет: „Этим хоть бы что, все за деньги. Только деньги давай. Вот у меня жена педагог, никаких взяток не берет. Максимум — букет цветов, еще клюкву в сахаре“. Партийный завершает фугу: „А здесь все-таки просветляешься, не знаю кто как“. Выходим гурьбой на корму: последний взгляд назад. Монастырь поставлен так искусно, что крепостные башни симметрично окаймляют соборы лишь с этой точки зрения — из горловины бухты Благополучия. Соловки гармоничны только при встрече и при прощании с ними. В упор — не углядеть. Одна из героинь фильма „Власть Соловецкая“ рассказывает о том, как впервые за несколько лет где-то на пересылке попалось зеркало. Все женщины бросились к нему. Она долго не могла найти себя в зеркальной толпе, потом увидела собственную мать — морщинистую, седую, и поняла, что это она сама. Так страна, не отрекаясь и не раскаиваясь, не обнаруживает своего отражения, не узнает, не желает узнавать себя в зеркале, разве что в лестном кривом.