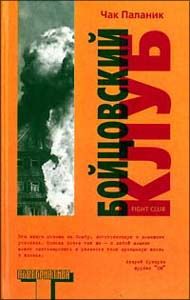Хольт Майер - «Здравоохранение» Кюхельбекера и русский литературный канон
Не подлежит никакому сомнению, что данные строки относятся именно к Кюхельбекеру, написавшему в 1823 году критическое эссе, в котором он превозносил оду. Пушкин не мог упомянуть имени Кюхельбекера, обвиненного в предательстве за участие в восстании 1825 года.
Значение этих строк состоит в следующем: рассказчик приводит аргументы «строгого критика» против элегии с надеждой, что тот выскажется в пользу релятивизации жанровых различий, обращающих мысли в «мертвый капитал». Затем приводится другие аргументы в пользу оды и высказывается сожаление, что дискуссия о жанрах все еще ведется подобным образом. И подводит итог: «И, полно, друг; не все ль равно?».
«Повелевает сбросить нам / Элегии венок убогой» — элегия убога, и именно поэтому строгий критик повелевает сбросить ее лавровый венок, т. е. исключить этот жанр из литературного канона. Кто сбрасывает венок со своей головы? Чья голова, чье тело фигурируют в этом фрагменте? Очевидно, что речь ведется от лица поэтов («мы»), отвергающих «канонический» венок. Мое предположение, однако, состоит в том, что в центре драматической борьбы за канон вновь оказывается корпус канонических текстов. Поэтический текст говорит о своей собственной жанровой ориентации и ищет нового носителя «канонического» венка. Для нас важно то, что приведенные выше строки определяют регулирующую канон структуру и функцию критика, пытающегося эту структуру контролировать. Стремление к контролю выражается через эпитет «убогой», который в соответствии с вышедшими из употребления правилами орфографии может относиться как к элегии, так и к венку (в современном языке эта форма должна быть отнесена только к элегии). Возможность двойного толкования еще не была отмечена ни одним пушкинистом. Два возможных приложения определения «убогой» — к элегии и к венку — могут быть приписаны двум различным голосам: соответственно критику и рассказчику, который в таком случае критиковал бы канонический венок и систему его присуждения. Это особенно важно, если допустить, что в речи рассказчика звучит не голос автора, а голос самой поэзии.
Особое значение в данном контексте приобретает тема «убогости», т. е. слабости или болезненности стратегий литературного текста. Понятие «силы» текста (главный критерий каноничности с точки зрения Блума) обрастает многообразными смысловыми коннотациями. Главным тем не менее остается определение литературным произведением условий его собственного существования, при которых становится возможным завоевание «лаврового венка» канона. Перед нами случай ярко выраженной канонической souci de soi («заботы о себе» — термин М. Фуко).
«И мыслей мертвый капитал / Отвеюду воскресить прикажешь: / Не так ли, друг? — Ничуть. Куда! / „Пишите оды, господа, // Как их писали в мощны годы…“» Как кажется, наиболее значимо здесь «воскрешение капитала мертвых мыслей» и соответствующие биолого-медицинские импликации, не в последнюю очередь связанные с теми стратегиями высказывания, которые я рассматривал выше.
Анжамбман внутри строфы является поэтическим протестом против заключения самой поэзии в рамки определенных правил, он интересен также с точки зрения поэтического голоса: располагаясь в середине речи строгого критика, он с легкостью может быть интерпретирован как бунт самих стихотворных строк против воспевания оды или против любой жанровой «заботы о здоровье» в целом.
Описание в стихах Кюхельбекера расстрелянного и разорванного тела как эмблемы судьбы русских поэтов, а также выведенный Пушкиным образ «драконовского критика» и его отношение к «смерти» и «воскрешению» мыслей могут быть прочитаны в терминах телесной заботы литературы о себе. Тело и его здоровье составляют предмет заботы, которая обращает литературный канон в аллегорию, проецируя в нее и саму себя.
Задача данного текста, краткое теоретическое и историческое введение к которому я предложил выше читателю, состоит в следующем: определить место Кюхельбекера в русском литературном каноне, выявить средства, с помощью которых Кюхельбекер пытается позиционировать себя относительно этого канона. Этот вопрос будет рассмотрен на фоне находящихся на вершине канона сочинений Пушкина. Я также постараюсь осветить ту литературную ситуацию, в которой Кюхельбекер оказывается «канонически больным и слабым», а Пушкин «канонически здоровым и сильным». Иными словами, за счет какой силы звучание пушкинского слова достигает неизмеримо большего числа слушателей, нежели поэзия Кюхельбекера. Кто слышит это звучание? И чье «слышание/слушание» наделяет тексты Пушкина силой? Какие следы стремления к каноническому здоровью мы можем обнаружить в самих текстах, какие приемы используют эти тексты, заботясь о собственном каноническом здоровье?
Я буду опираться на идеи, развитые М. Фуко в его «Истории сексуальности» (в первую очередь в книге «Забота о себе» («Souci de soi») [Foucault 1984]; [Фуко 1998]), а также Э. Канторовичем в книге «Два тела короля» [Kantorowicz 1957], использовать для объединения двух подходов «Западный канон» X. Блума [Bloom 1994]. Основываясь на этих трех классических работах, каждая из которых оказала несомненное влияние на саму историографию, я хотел бы исследовать медицинские аспекты тропов телесности, используемых в этих работах, чтобы затем поставить вопрос о том, могут ли эти тропы быть приложимы к литературному канону. Следующим моим шагом будет рассмотрение канонической позиции Пушкина и Кюхельбекера, тексты которых представляются мне релевантными поставленным вопросам.
3
«Западный канон» Канторовича? «Два тела» блума
А ТЫ, БОЛЬНОЙ ПОМАЗАННИК, ВРУЧАЕШЬ
СВОЮ СУДЬБУ БЕСПЕЧНО ТЕМ ВРАЧАМ,
КОТОРЫЕ ТЕБЯ Ж И ОТРАВИЛИ.
КИШАТ ЛЬСТЕЦЫ В ЗУБЦАХ ТВОЕЙ КОРОНЫ;
ОНА МАЛА, КАК ГОЛОВА ТВОЯ…
Работа Канторовича «Два тела короля. Очерк политической теологии Средневековья» может рассматриваться как исследование проблемы королевского статуса в Средние века. Его релевантность для источников каноничности представляется на первый взгляд неочевидной. Суть заключается в том, чтобы взглянуть на Канторовича как на писателя, на создателя произведения, которое использует литературный канон и претендует, таким образом, на собственную каноничность, нежели как на историка.
Канторович дважды прямо говорит о литературном каноне: он анализирует шекспировского «Ричарда II» и политическую философию Данте, пространно цитирует не только политический трактат «Монархия», но и «Божественную комедию», рассматривает самого Данте как «обобщенный образ человека или олицетворенное в образе поэта человечество».
Несмотря на то что Данте творил тремя веками ранее Шекспира, именно он становится объектом заключительной части исследования Канторовича, в то время как первые главы посвящены «Ричарду II». Обращение к этим двум авторам, которых Блум считал своеобразным «стержнем» «западного канона», в обратной хронологии может вызвать сомнение у теоретиков литературы, поскольку создает опасный прецедент использования художественного произведения в качестве исторического источника. Действительно, в «дантовской» главе Канторович высказывает следующее, на мой взгляд, неоднозначное и не вполне отчетливо сформулированное суждение:
Провидения Данте-поэта находятся в неизменно сложном взаимодействии с аргументами Данте — политического философа, хотя в иных аспектах эти два способа человеческой деятельности в сфере духа предназначены быть друг другу опорой. Дантовская «тяжко продвигающаяся» логика, хотя и совершенно ясная, последовательная для всего его творчества — была тем не менее отчетливо линеарной, поскольку каждая точка мыслительной протяженности располагалась на пересечении бессчетного количества других точек и протяженностей. Следовательно, любая попытка воспроизвести размышления Данте-философа в «прямолинейной», игнорирующей комплексность взглядов поэта манере едва ли избежит опасности обращения в плоскую банальность. Более того, интерпретатора подстерегают здесь многочисленные ловушки. Любое отклонение от логично последовательной аргументации, столь любезной для литературного критика, немедленно ввергнет его в безбрежность дантовских спекуляций, которая поглотит интерпретатора, уподобляющегося Улиссу Данте, который отправился в свой последний Путь в Неизвестное.
Определение литературной и политической философии как «двуединого подхода к области духа» достаточно проблематично. Яркое изображение подстерегающего историка «кошмара соскальзывания из саморазрушительной „линеарной“ интерпретации в дантовскую „спекуляцию“» свидетельствует о том, что Канторович испытывает явственный страх прикосновения (Berührungsangst) к «литературному». В то же время Канторович завершает свои рассуждения о Данте и книгу в целом настоящим «апофеозом литературного». Он предшествует эпилогу: «Лапидарно, как подобает римлянину, Вергилий выразил эту идею в шести счерпывающих словах, когда, прощаясь с учеником, завершил свое напутствие так: „ТЕ SOPRA ТЕ CORONA Е MITRIO“». Данте дарует корону и митру самого Данте — нет нужды говорить о том, что эта строка чревата импликациями и аллюзиями, что ее смысловая наполненность неисчерпаема как неисчерпаемо любое насыщенное жизнью произведение искусства.