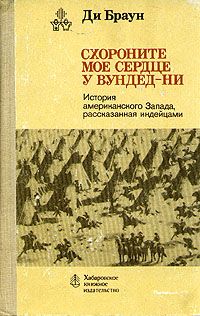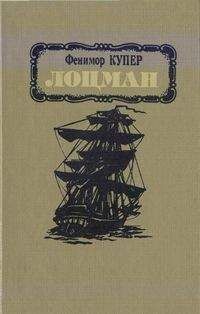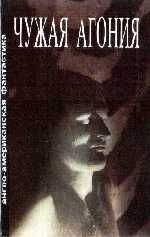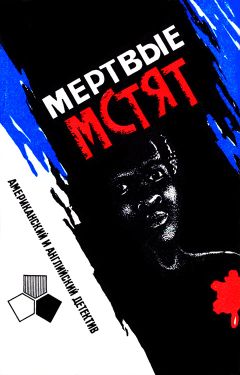Елена Айзенштейн - Из моей тридевятой страны
Прелесть ахмадулинской вариации на тему «Лесного Царя» Гёте – в пропущенности собственно-авторского взгляда сквозь призму цветаевских образов. Скрещенье взглядов создает пересечение нового, открываемого Ахмадулиной для себя (и читателя) смысла. Охранителем ребенка (автора) от Лесного Царя у Ахмадулиной выступает сад-всадник, соединивший в себе сразу несколько персонажей Гете: коня, всадника, то есть отца, окружающую их природу. Предметом изображения послужили деревья, стоящие в Тарусе, на берегу Оки, что само по себе имеет цветаевскую почву. Образы деревьев-всадников заимствованы у Цветаевой (цикл «Деревья»). Сама тема Лесного Царя связана не только с Гете, но и со статьей Цветаевой «Два „Лесных Царя“», а тема сада – со стихотворением «Сад», строки из него стали эпиграфом к «Саду-всаднику»:
За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет.
Цветаева в этих стихах просит у Бога сада одиночества, сада того света. Ахмадулина сквозь лик сада-отца – природы, загнанной человеком в уютные декоративные рамки, видит лик Лесного Царя, правящего свободной, стихийной, ту-светной природой, превышающего сад-всадник, летящий в непогоду по отвесному склону. Поэт-ребенок, избранник Лесного Царя, боится страшного взора стихии, открывшегося ему над садом в сгустках тумана, в узоре созвездий. С хвостом и в короне, Лесной Царь нечеловеческим гневом и блеском своим пугает ребенка-поэта, торопящегося укрыться в отчем плаще земного сада, вернуться «в отчизну обрыва-отшиба», с небес на землю. Но спасение от Лесного Царя сопровождается сожалением:
Живую меня он приносит в обитель
на тихой вершине отвесного склона.
О сад мой, заботливый мой погубитель!
Зачем от Царя мы бежали Лесного?
Побег от Лесного Царя оборачивается отказом от встречи с божеством природы, человеческой слабостью перед встречей с «завременьем», с силой высшего порядка, жаждавшей заполучить душу поэта, а значит, поставить на службу себе его голос. «Все было дано, а судьбы не хватило», – пытается объяснить невстречу с Лесным Царем автор. Судьбы не хватило, то есть величины дара, духовных сил, чтобы понять, что сад и Лесной Царь – одно:
…Полночью черной
в завременье позднем сад-всадник несется.
Ребенок, Лесному Царю обреченный,
да не убоится, да не упасется.
Призыв не убояться Лесного Царя автор обращает к самому себе. Гибель в руках Лесного Царя, «короткая гибель под царскою лаской», – судьба, предназначение поэта. Эпиграф из Цветаевой выводит Ахмадулину из своего поэтического мира в контекст общепоэтический и превращает «Сад-всадник» в стихи о роковой неизбежности, законе власти над душой поэта демона природы, от которого исходят все стихи.
Труд души поэта – стать частью природы, ее горлом, услышать волю цветка и луны, стать «сообщником» лунного света и снегопада, травы и воздуха:
Сквозь растенья, сквозь хлесткую чашу воды
принимая их в жабры, трудясь плавниками,
продираюсь. Следы мои возле звезды
на поверхности ночи взошли пузырьками.
Вхождение поэта в природу – погружение и восхождение: поэтические строки – рыбий выдох пузырьками любви воздуха природы, выдох, возносящий поэта в вечность, в пространство «возле звезды».
Во взгляде Ахмадулиной на Цветаеву столько знания, знания изнутри, что создается ощущение куда большей породненности Ахмадулиной и Цветаевой, чем об этом скромно говорит сам поэт:
Теперь о тех, чьи детские портреты
вперяют в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты забритые в поэты,
те стриженые девочки сидят.
У, чудища, в которых все нечетко!
Указка им – лишь наущенье звезд.
Не верьте им, что кружева и челка.
Под челкой – лоб. Под кружевами – хвост.
В этих стихах речь о детских фотографиях Цветаевой и, вероятно, Ахматовой, об их обреченности на поэтическое ремесло, забритости в поэтическую гвардию с детства; о поэтах как о нечеловеках, чья принадлежность роду людскому отмечена кружевами и челкой, скрывающими «лоб» и «хвост», даримые звездами атрибуты «чудищ», чьи родственники – львы и рыси, Лесной Царь и сад-всадник:
…о, их глаза… – как рысий фосфор зрячи,
и слышно: бьется сильный пульс в уме.
С поэтической «отметиной чудной во лбу» родилась и сама Ахмадулина. И не от этого ли знания собственной кожей, не оттого ли, что ей тоже «двоюродны люди и ровня – наяды», так убедителен и великолепен ее голос в заключительных строфах стихотворения:
Ты мучил женщин, ты был смел и волен
вчера шутил – не помнишь нынче с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.
По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не уронив, —
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.
Жизнь – поэтический черновик, из которого рождаются бессмертные строки. Как и Цветаева, Ахмадулина тоже уходит вдаль «по болдинской аллее», аллее поэтического вдохновения, заложенной еще Пушкиным «в надзвездном верхе». Ее удел – быть избранником небес и жертвой, поэтом и изгоем, расплачивающимся за свой дар:
Что за мгновенье! Родное дитя
дальше от сердца, чем этот обычай:
красться к столу сквозь чащобу житья,
зренье возжечь и следить за добычей.
Звание поэта отнимает возможность жить как все, отнимает поэта у семьи, у детей, перед которыми Ахмадулина чувствует себя виновной:
Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.
…………………………..
Все более я пред людьми безгрешна,
все более я пред детьми виновна.
В сущности, ахмадулинский «Пашка» – об этом. Рассказ о пятилетнем мальчике», сам по себе трогательный, становится авторским покаянием: «О, для стихов покинутые дети! / Нет мочи прочитать: эм—ам—а». «…скорбь всех детей вобравший Пашкин глаз» – символ принесенной поэтом жертвы, отказа от семьи во имя творчества. Но этот отказ – и благо, и необходимость:
Не то чтоб я забыла что-нибудь —
я из людей, и больно мне людское, —
но одинокий мной проторен путь:
взойти на высший камень и вздохнуть,
и все смотреть на озеро морское.
………………………..
Меня не опасается змея
Взгляд из камней недвижен и разумен.
Трезубец воли, скрытой от меня,
связует воды, глыбы, времена
со мною и пространство образует.
Поднебно вздыбье каменных стропил
Кто я? Возьму Державинское слово:
я – некакий. Я – некий нетопырь,
не тороплив мой лёт и не строптив
чуть выше обитания земного.
Я думаю: вернуться ль в род людей
остаться ль здесь, где я не виновата
иль прощена? Мне виден ход ладей
пред-Ладожский и – дальше и левей —
нет, в этот миг не видно Валаама.
Кто из нас может сказать о себе: я из людей, и больно мне людское? «Я из людей» скажет только тот, кто на самом-то деле не совсем из людей, совсем не из людей, он только отчасти принадлежит к роду человеческому ощущением людской боли. Так может о себе сказать поэт. Полет Ахмадулиной, по ее собственному признанию, «чуть выше обитания земного». В том самом небе поэта, которое «верх земли и низ неба» (М. Цветаева). Поэт может (а может ли? и не поэтическая, и не детская ли это игра?) вернуться в род людей и чувствовать себя юродивым или остаться в своем небе, в творчестве, ощутив гармонию вселенной, откуда ему «виден ход ладей пред-Ладожский», откуда видна мирская жизнь точнее, прекраснее, чем самим мирянам, живущим ею. Вся ли жизнь? Все ли бытие открыто поэту с высоты, дарованной ему природой и его Гением?
Мне виден ход ладей
пред-Ладожский и – дальше и левей —
нет, в этот миг не видно Валаама.
Оказывается, все же высота эта – понятие относительное, с нее виден ход ладей земных, но «в этот миг не видно Валаама». Валаам здесь не земной ориентир, а символ духовной реальности, невидимой с того «высшего камня», на котором стоит Ахмадулина. «В этот миг не видно»… Значит ли это, что в следующий миг будет видно? Откуда смотреть. Может быть, речь о еще большем наборе высоты, и придется не вернуться в род людей, а отдалиться от него?