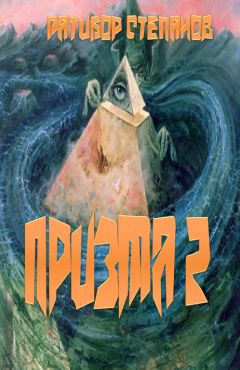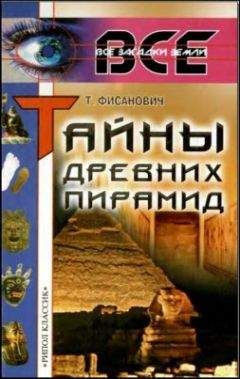Маргерит Юрсенар - Трагические поэмы Агриппы дОбинье
Первая песнь, «Беды» (во всяком случае, та ее часть, которую все еще стоит читать), — это, в общих чертах, буколика наизнанку, описание бедствий крестьянства, раздавленного по вине зачинщиков гражданской войны, разоренных и одичалых селений, жестокости человека, отнимаюмего корм у несчастных животных. В «Бедах» д'Обинье передает жалобный стон малых и слабых, заглушаемый вскоре громогласным «Те Deum» победителей и тонущий в сплошном грохоте оружия: эти славные звуки куда больше волнуют даже побежденных. Поэт идет дальше, выражая немой протест земли, превращенной неблагодарными людьми в пустыню. Этот сельский дворянин, знакомый с Вергилием, благоговеет перед красотой природы, питает сочувствие (далеко не всегда самоочевидное) к труженикам нивы и даже с какой-то нежностью (редкой во все времена, хотя не столь невиданной, как мы думаем, среди людей той суровой эпохи) относится к вечно уничтожаемому полевому и лесному зверью. Но назидания и дотошное перечисление примеров голода и разрухи в Израиле то и дело загромождают безличной риторикой картину бед французской земли. Яростные проклятия по адресу Екатерины Медичи и кардинала Лотарингского посягают уже на тему второй песни, и автор, увлекаемый половодьем поэтического материала, обращается к Ювеналовой сатире.
Во «Властителях» этот гугенот (впрочем, отнюдь не пуританин) обличает распутство и мотовство королевских особ в обвинительной речи, где неоспоримые истины сдобрены порцией высокопарных банальностей с примесью явной клеветы. Конечно, от Генриха III не отделаешься избитыми сравнениями с Гелиогабалом или Иеровоамом; Екатерину Медичи не объяснишь, изобразив ее мегерой, которая лезет из кожи вон, лишь бы погубить Францию, гнусной ведьмой, приверженной черному ремеслу ворожбы, вроде зловещих трех сестриц, выведенных Шекспиром в «Макбете» в ту же эпоху. Тем не менее, подобно язвительному портрету папы Павла III и его племянников кисти Тициана, подобно гротескному образу Марии-Луизы Испанской, созданному около двух веков спустя Гойей, портреты последних Валуа, запечатленные визионером д'Обинье, таят реалистическое ядро, которою упорно не желали замечать биографы этих королей, радевшие о том, чтобы память о них была очищена до полной стерильности. Грубый Карл IX, болезненный человек и вместе с тем свирепый, охотник, в каждодневной бойне ожесточивший сердце, бесчувственное к зрелищу агонии и крови; Генрих III, с морщинистым бритым лицом, нарумяненным и набеленным, — сходство образа с оригиналом подтверждают и другие свидетельства эпохи, и верность определенному, вневременному, человеческому типу. Пусть оскорбления художника, возмущенного порочностью двора, не всегда разят в цель, он все-таки оказывается ближе к психологической правде, чем могли бы подойти к ней мы сами, уже потому, что разделяет со своими моделями ценностные суждения и даже предрассудки века. Когда Генрих Валуа театрально кается во время осмеянных д'Обинье процессий флагеллантов, кается он, вне сомнения, в тех самых грехах, в которых обвиняет его поэт, и сокрушенному королю они представляются не менее тяжкими, чем его обличителю-протестанту. Екатерина, прибегавшая к услугам некромантов и астрологов, вероятно, была бы не слишком удивлена тем, что д'Обинье вменяет ей в вину преступное колдовство; она удивилась бы куда больше, узнав, что полностью оправдана учеными, переставшими верить в силы Зла.
Пользуясь всеми благами и властвуя в годину всеобщих бедствий, любой монарх ответствен по долгу службы: беспорядочная деятельность королевы-матери, склонной к интригам и компромиссам, наверное, заслуживает скорее порицаний д'Обинье, чем похвал современных историков, выдающих ее недальновидную ловкость за политический гений (а это нечто иное); и каковы бы ни были достоинства короля Генриха III, естественно, что безумные капризы и безумные расходы последнего Валуа стали причиной и грозных обвинений в «Трагических поэмах», и грязных поношений в памфлетах Лиги. Дело не только в том, что и партия протестантов, и крайние католики вели антимонархическую пропаганду, а в том, что гугеноты и капуцины выражали единую — то есть попросту христианскую — точку зрения на истинные или предполагаемые пороки и преступления властителей.
«Золотая палата» бичует коррупцию и бездушие судей; здесь аллегория и сатира еще полнятся духом Средневековья. Бог сходит с небес, дабы выяснить, что творится в суде, и в этом чертоге, построенном из человеческих костей, скрепленных пеплом, его взору предстает скопище гротескных персонажей, чей колоритный облик достоин Бocxa или Брейгеля: вот похрапывает Глупость; вот Алчность, одетая в лохмотья, прячет свои золотые; Невежество берется без устали судить, считая все дела пустяковыми; вот источающее гной Ханжество; безликое Тщеславие; Угодничество, готовое подписать любой приговор; вот поддакивает всем безгласный Страх, а Шутовство обращает преступления в шутку; вот, наконец, Молодость, смело введенная поэтом в эту ассамблею гарпий: она жадна и безрассудна; услужливый кравчий на пиру сегодняшних богов, она, не задумываясь, подливает в их чаши кровавый напиток. В корявых, но исполненных высокого реализма и поэтического дерзновения стихах описано испанское аутодафе, происходящее прямо пред очами Божьими. Осужденным, которых Инквизиция рядила в гротескные одежды, будто отметив знаками почетного наследства, — «в плащах желтеющих... венках терновых, с тростями на плечах» (Все цитаты даются в переводе А. М. Ревича по изд.: Д'Обинье Т. А. Трагические поэмы. М, Рипол Классик, 2002. Примеч. пер.) — подносят распятие, предлагая примирение in extremis, что, как мы знаем, означало для них милость быть удушенными, а не сожженными заживо. Поэт закипает возмущением, видя, как недвижный символ Страстей Христовых предъявляют тем, кто терпит Христовы муки во плоти. Вполне естественно, что Елизавета Английская, победительница Филиппа II, обрисована у д'Обинье как божественная Фемида, как Небесная дева, источник упований гонимых гугенотов; естественно и то, что поэт обходит молчанием варварскую несправедливость и беззакония, творившиеся под властью королевы-протестантки: пристрастность — в природе человека, а природа берет свое.
Следующая песнь, «Огни», — быть может, самая запоминающаяся из семи книг поэмы. Бог все еще присутствует, наблюдая воочию судебные преступления, и потрясающее, невыносимое перечисление брошенных в костер еретиков продолжается до тех пор, пока Абсолютное Существо, пожалев о сотворении мира, не возвращается в гневе на Heбeca. Но эта наивная театральная сцена незначительна в сравнении с ужасающе подробным описанием предсмертных мук бесконечной вереницы жертв, среди которых встречаются личности, еще и теперь относительно известные (известные хотя бы немногим специалистам по истории XVI века), однако большинство забыто навсегда, забыто так же, как если б они не были увенчаны славой мучеников, а остались бы жить, отрекшись в последнюю минуту. Анн дю Бур, советник парламента, заживо сожжен в Париже; Томас Кранмер, примас Англии, сожжен в Оксфорде; Уильям Гардинер, английский купец, которому отсекли обе руки, сожжен в Лиссабоне; Филиппа де Лен, госпожа де Граверон, сожжена на площади Мобер после того, как палач отсек ей язык; но здесь же, рядом с ними, — и. некий Томас Хокс, сожженный в Кокшэле; некая Анна Эскью, сожженная в Линкольне; Томас Норрис, сожженный в Норвиче; Флоран Вено, казненный в Париже; Луи де Марсак, сожженный в Лионе; Маргарита Ле Риш, книготорговка, сожженная в Париже; Джованни Моллио, монах-францисканец, удавленный в Риме; Никола Кроке, торговец, повешенный на Гревской площади; Этьен Брюн, земледелец, сожженный в Дофине; Клод Фуко, казненная на Гревской площади; Мари, жена портного Адриана, заживо похороненная в Турне; безвестные жертвы, выбранные поэтом наугад (а иногда ради рифмы) из череды осужденных, чьих имен он и сам не знает. Не ставя иных целей, кроме назидания, д'Обинье глубоко проникает в психологию мученичества: он сумел понять, что гнев, ожесточение, неукротимое желание до конца бросать «нет» в лицо тупоумному судье или грубому палачу, наравне с мистическим горением, питают непостижимое бесстрашие мученика. Понятна поэту и классическая тактика палача — искусство унижать, топтать свою жертву до тех пор, пока, утратив человеческий облик, она не станет внушать отвращение вместо жалости. Ему известен также банальный механизм, заставляющий людей состязаться в жестокости, словно из страха, что их участие в акте коллективного изуверства окажется неполноценным. На сей раз мы забываем о литературе: страшное повествование, с одной стороны, о пытках, с другой — о мужестве, перед которыми воображение равно бессильно, — из той же категории, что рассказ о погроме, отчет из Бухенвальда или свидетельство очевидца Хиросимы.
В «Мечах», наконец, сами ангелы рисуют на небесном своде кровопролитные сцены религиозных войн, представляя их на праведный суд Всемогущего, — игра теперь уже чисто барочной фантазии, напоминающая расписанные фресками ренессансные потолки. Разумеется, все эти сцены показывают бесчинства и зверства католиков, так же как в «Огнях» мучениками всегда были протестанты; но несмотря на ограниченность предвзятых симпатий и пристрастного негодования д'Обинье, его по-настоящему терзает ужасная проблема жестокости человека к человеку. Люди слишком часто оправдывают преступления прошлого, объясняя их нравами той поры, из-за которых якобы подобные злодеяния не были чем-то недопустимым даже в глазах жертв. Взгляд Агриппы д'Обинье на события Варфоломеевской ночи опровергает эту удобную точку зрения: описание резни — с обычными эпизодами личной мести, замаскированной официальным фанатизмом, линчевания безвинных, обмена скабрезностями меж придворных дам по поводу брошенных нагих трупов — говорит о том, что поэт возмущен не меньше, чем хотя бы некоторые из наших современников, наблюдающих нынешние преступления, и возмущение его столь же трагически тщетно. Воссоздавая это мрачное происшествие из жизни Парижа, д'Обинье смешивает на картине цвета сажи и пламени, достигает выразительности резким контрастом светотени, в манере Тинторетто или Караваджо, творивших тогда же по другую сторону Альп. Подготовка к бойне, свадьбы Марии Клевской и Маргариты Валуа, послужившие прологом и, может быть, сигналом к расправе («здесь западня — альков, здесь ложе — одр в крови, / здесь принимает смерть светильник у любви»); эти мглистые сумерки, где «дымится кровь и души стали миром», — все показано совсем не так, как показывают нам убийства сегодня; здесь нет ничего похожего на серое мелькание кадров кинохроники — перед нами полотно большого стиля, полностью тождественного стилю XVI века.