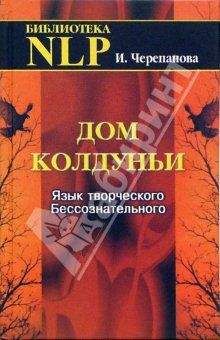Андрей Фесенко - Русский язык при Советах
Кроме труда Карцевского, нам известны отдельные заметки в периодической прессе и две статьи: Л. Ржевский, «Живое и мертвое слово» (Грани, Лимбург, № 5, 1949) и Л. Тан, «Запечатленный язык» (Новый Журнал, Нью-Йорк, XXIII, 1950). Обе увлекательные статьи написаны, очевидно, одним и тем же лицом. В 1951 г. вышла в свет брошюра того же Л. Ржевского – «Язык и тоталитаризм», являющаяся, по сути, вариантом указанных выше статей.
Если работы Мазона, Карцевского, Селищева и Винокура посвящены, главным образом, новому в лексике и в незначительной степени новому в морфологии русского языка послереволюционного периода, то о чем-либо новом в области синтаксиса нет вообще никаких исследований. Что касается синтаксических изменений в пределах советского периода, то хотя мы и находим в редактированном и частично составленном акад. В. Виноградовым специальном труде «Вопросы синтаксиса современного русского языка» в качестве рабочего материала советскую литературу, но без какого-либо акцента на ее исключительности или обособленности по отношению к синтаксической структуре русского языка дореволюционной эпохи.
В пределах Советского Союза изучению современного русского языка, особенно его последнего – советского периода, уделялось исключительно мало внимания. Здесь можно усмотреть две основные причины. Первая – это слишком большая рискованность темы, именно из-за ее крайней актуальности, постоянная опасность не угодить кремлевским законодателям, высказаться не в унисон с генеральной линией партии. Показательно, что только двое из языковедов (проф. А. Селищев и проф. Г. Винокур) отважились, как мы упоминали выше, создать более или менее капитальные труды по этому вопросу, и оба оказались жертвами своей «дерзости». Впрочем, из-за недостатка кадров, оба этих видных ученых были позже «прощены» и привлечены к работе.
Вторая причина – это общее направление советского языкознания, санкционированное до войны Кремлем и шедшее под знаком палеонтологического анализа, введенного с «тяжелой» руки акад. Н. Марра и ограниченного в своих исследованиях преимущественно древнейшими стадиями языка.
Совершенно справедливо многие ученые-лингвисты Советского Союза [1] жаловались на отсутствие в советских вузах факультативных курсов по русскому литературному языку или хотя бы кружков любителей живого русского языка, а самое главное в СССР до войны даже не было ни одного научного центра, занятого специальным изучением русского языка. Так, например, имевшийся в Москве Институт языка и письменности народов СССР не включал в свою программу… русский язык.
В последнее время интерес к изучению русского языка значительно повысился. Так, уже в 1944 г., параллельно существовавшему с 1930 г. в системе Академии Наук СССР Институту языка и мышления, был создан специальный Институт русского языка. Правда, в 1950 г., после знаменитой сталинской дискуссии о советском языкознании и «разоблачения» старого марровского руководства обоих институтов (акад. И. Мещанинова и проф. Ф. Филина), последние были слиты в единый Институт языкознания, во главе которого был поставлен крупнейший советский лингвист в области русского языка акад. В. Виноградов [2].
Говоря о возрождении интереса к родному языку в «послемарровский» период, нельзя обойти молчанием и книгу Галкиной-Федорук, «Современный русский язык: Лексика» (1954). В этой работе, как и в других лингвистических работах послевоенного времени, по-прежнему не выделяется специфика русского языка советского периода, за исключением момента аббревиации.
Всё же курс университетских лекций Галкиной-Федорук по лексике интересен для нас тем, что он свидетельствует о некоторых сдвигах в рассмотрении русского языка в целом, а таким образом и в определении его движения в последний период.
Вопросу специфики русского языка советского периода посвящена последняя, очень незначительная по размерам (всего 10 страниц), глава книги А. Ефимова «История русского литературного языка» (1954).
Выдержанная в стиле дифирамба советскому языку, эта глава, игнорируя отрицательные моменты, дает в искаженном ракурсе якобы образцовый «новый большевистский стиль речи».
Совершенно естественно, что размер главы не позволяет читателю познакомиться основательно с такими характерными особенностями советского языка, как формальные и смысловые неологизмы, явление аббревиации, распространение профессиональных диалектизмов и многие другие. Все они только намечаются автором.
Касаясь, опять-таки, недостаточности изучения русского языка именно советского периода, кроме вышеуказанных моментов следует отметить и разницу во взглядах на составные элементы русского языка при советах. Это в свое время было сделано Л. Успенским в его статье, помещенной в чешском журнале «Slavia», за 1931 г. (стр. 270):
«Наиболее важными факторами в деле организации современного русского языка отдельным авторам кажутся: 1) интеллигентская речь, 2) жаргон войны и армии, 3) язык городского «дна» (в частности, воровской арго)».
Конечно, есть немало людей, которые вообще не желают признавать какой-либо специфики русского языка советского периода и всё, не только навязанное языку сверху, но и органически развившееся в нем за время от 1917 года, расценивают как нечто чужеродное. Близорукость такой точки зрения очевидна.
С другой стороны, нельзя разделить и взгляда виднейшего советского лексикографа и лексиколога С. Ожегова, пытавшегося в своей статье «К вопросу об изменениях словарного состава русского языка» (стр. 76) наметить периодизацию развития современного русского языка в пределах самой советской эпохи:
«…от Октябрьского переворота до ликвидации эксплуататорских классов…»
«…от ликвидации капиталистических элементов города и деревни до полной победы социалистической системы хозяйства и принятия новой Конституции в 1936 г…»
«…период выявления результатов величайшей культурной революции,…период сформирования монолитной советской интеллигенции,…период перехода от социализма к коммунизму…»
Больше тридцати лет прошло со времени написания первой работы о революционном русском языке; многое в языке изменилось, многое прибавилось, многое бесследно исчезло. Конечно, советские писатели стараются уверить своих читателей в вечности «советизмов», как это делает, например, Л. Хаустов в своем стихотворении «Родной язык» (сб. «Дорогой мира», Ленинград, Сов. писатель, 1952, стр. 93):
Величьем океану сродный
Весь – воплощенье наших сил,
Он жизни опыт всенародный
В своих глубинах отразил.
И слово давнего былого,
Войдя в богатство языка,
Стоит в соседстве с новым словом,
Рожденным нами на века.
(Подчеркивание наше – Ф.)
Естественно, что обобщающее заявление Хаустова о рождении новых слов (т. е. «советизмов») на веки вечные является больше, чем преувеличением. Прочно утвердиться в языке может только закономерное для него, случайное же сметается со столбовой дороги языка.
Еще Гегель говорил, что для более глубокого познания вещи следует отойти от нее. Возможно, вырвавшись за пределы Советского Союза, легче подметить некоторые особенности русского языка советского периода, ускользающие от внимания тех, кто непосредственно приобщается к нему.
Но при любых обстоятельствах систематизация имеющегося языкового материала осложнена спорностью трактовки многих смысловых неологизмов, т. е. слов в старой морфологической оболочке, доосмысленных по-новому. В них иногда ощущается еще метафоричность и они рассматриваются в школе как омонимы. В действительности же они являются паронимами, т. е. словами, не случайно совпавшими в своей форме, но ответвившимися от одного ствола, причем ответвление происходит по законам семантической деривации – от частного к общему и наоборот, видовому сходству, смежности и, наконец, функциональности.
Конечно, потеря метафоричности, автономизация нового паронима, его быстрое становление, как совершенно самодовлеющего слова, зависят от частоты употребления и удельного веса этого паронима. Так, например, если над шутливым молодежно-студенческим словом «капелла» (компания друзей, приятелей) еще явно довлеет непосредственный образ хоровой капеллы, то уже между словами «ударник» в его первоначальном значении детали ружья и «ударник» в его производном значении работника-энтузиаста потерялась непосредственная связь даже в пределах одного поколения. Во всяком случае, она давно перестала ощущаться в повседневном быту, и для ее восстановления нужен специальный экскурс, как мы видим из приводимого ниже примера:
«- Кондраша, Давыдов тебя повеличал… вроде бы в похвальбу… А что это такое – ударник?
Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. «Надо бы у Давыдова разузнать!» – с легкой досадой подумал он. Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог, а потому и объяснил, как сумел: