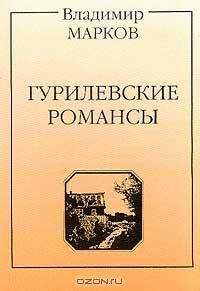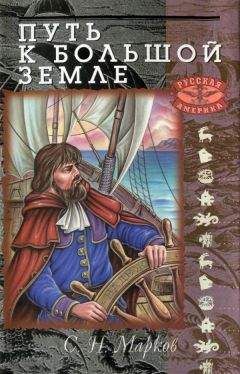Алексей Марков - Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов
Квартира или комната (последнее — чаще) нередко снималась на двоих или более студентов, деливших арендную плату и коммунальные расходы. Обстановка или оставалась от хозяев, или ограничивалась (как правило) самыми элементарными объектами: стол, кушетка, настольная лампа. К ним могли добавляться платяной шкаф и книжная полка. Насколько аскетическим полагали студенты свой скудный быт? Аскетизм если и упоминается в письмах, мемуарах и «этнографических» текстах, то как вынужденный, обусловленный низкими доходами: нет и следа от идеологического аскетизма студенчества эпохи «хождения в народ»[171].
Распорядок студенческого дня сильно варьировался от индивида к индивиду и со дня на день. Неопределенность была его наиболее характерной чертой, сближавшей студента по образу жизни с маргиналами всех мастей и литературно-артистической богемой, то есть тоже маргиналами особого рода. Однако ординарный студент все же довольно часто присутствовал на лекциях и семинариях в вузе и участвовал в жизни студенческих организаций. Если он был в достаточной мере дисциплинирован, то его день начинался довольно рано, с тем чтобы можно было успеть на утренние лекции и в библиотеки, имевшие обыкновение закрываться в 3–5 часов пополудни[172]. Остаток дня мог быть посвящен студенческим делам, друзьям и знакомым или чтению и самостоятельной работе. Часто студенческие развлечения продолжались далеко за полночь, делая день петроградского вузовца длинным и разнообразным по впечатлениям. Однако здесь обрисован своего рода идеальный образ. Не стоит забывать, что многие прирабатывали уроками, забиравшими изрядную долю времени. Немало было и тех, у кого не было ни гроша на развлечения и даже на книги, а нередко и на сколько-нибудь сносную комнату. Недаром «этнограф» московского студенчества начала века П. Иванов вывел образ быстро деградирующего студента-бомжа[173]. Его день мог проходить в поиске пропитания и «бесцельном времяпрепровождении». Нам остается еще раз подчеркнуть удивляющие наблюдателя разнообразие и нестабильность студенческого расписания, ставшие чертой самосознания (как, впрочем, и желание добиться некоторого порядка, нормализовать свою жизнь). «Типичный студент таков — и он должен быть таковым».
Соответственно четкие маршруты студенческих перемещений также ограничивались университетом/институтом и библиотекой; для некоторых же они включали — пусть и время от времени — театры, музеи, студенческие и литературные кафе, публичные дома и т. д. По расположению места учебы и, нередко, жительства стрелка и набережные Васильевского острова и Невский проспект были главными студенческими артериями, а конки и извозчики — транспортными средствами (но многие перемещались пешком — ради экономии). Путешествующий пешком по центру студент имел, разумеется, несколько иную картину города, нежели постоянно пользующийся извозчиком. Однако габитус петроградского студента (именно как студента), представляемый в виде сложной классификационной динамической схемы или, скорее, сложного и запутанного переплетения таких самонастраивающихся схем, вряд ли ранжировал студенческие миры в зависимости от способа передвижения. Вообще переплетение в одном студенте габитусов «разного происхождения» еще более осложняет задачу: ведь наш учащийся мог быть сыном университетского профессора и крупного чиновника, учителя провинциального городка и зажиточного крестьянина и т. д. Насколько студенческий габитус вытеснял или подавлял все остальные? Скорее нужно говорить о сложном процессе совмещений, «притирок» и доминирования, которое и составляло индивидуальность каждого из акторов. При этом «чистый», надындивидуальный студенческий габитус — это не более чем удобная модель описания различных форм индивидуального поведения. Однако в том смысле, в каком наш студент все же оставался студентом, для него способ его передвижений не содержал конструктивного различия — в отличие, например, от стратегий поведения в университетском коридоре. Другое дело — рассматривать бытовые и прочие «мелочи» в общем контексте: тогда молодой пешеход неуловимо присутствовал в имидже свободного маргинала.
К своему телу учащийся конца империи и начала советских лет относился с куда большим вниманием, чем стереотипный «шестидесятник» (еще раз приходит на память это назойливое сравнение с «людьми 1860-х»!). И это несмотря на все неустройства и нищету в годы «военного коммунизма». Мемуаристы говорят о студентах-«модниках» (чистота рассматривается как нечто само собой разумеющееся) в великолепных сюртуках, шарфах и белых перчатках[174]. Из литературных источников нам известны гомосексуальные сообщества студентов с особым вкусом к «внешней» саморепрезентации[175]. Наконец, общая «сексуализация» культуры эпохи заставляла больше «заниматься собой». В этом контексте интересно посмотреть на развитие студенческого спорта в Петрограде. Пожалуй, в субкультуре русского студенчества ему никогда не уделяли внимания, сопоставимого с тем, которое обращали на спорт британские или американские универсанты. Однако расцветший в 1920-е годы студенческий и школьный спорт возник не на пустом месте и не из идеологических устремлений власти и культа армии исключительно[176]. У него были дореволюционные предшественники, и не только в среде «академистов»[177]. Спорт был, конечно, куда более «благородным», «британским», нежели в «пролетарскую» эпоху 1920–1930-х годов. Но это подчеркивает и разницу в «границах» и самосознании студентов на протяжении одного десятилетия.
В полумаргинальной студенческой жизни отдых и развлечения имели не меньшее значение, чем учеба. Поскольку в Петербурге не было «студенческого квартала» в буквальном смысле слова, трудно указать скопления студенческих закусочных, кафе, рюмочных. Однако на Васильевском острове, на Вознесенском проспекте таких мест хватало (как, возможно, и в других районах города, где находились вузы, например, поблизости от Политехнического института). Подобно парижским студентам, для петроградцев это — места товарищеских встреч, дискуссий — одним словом, общения. Не случайно правительство столь настороженно относилось к просьбам об открытии студенческих столовых: в представлении чиновников Министерства народного просвещения и Министерства внутренних дел они рано или поздно должны были стать центрами политической деятельности. Именно подобная настороженная реакция привела к проволочкам с регистрацией Василеостровского студенческого кооператива[178]. Наверное, рассматривать весь мир студенческого «общепита» сквозь призму политики необоснованно: темы обсуждения были по-студенчески разнообразны. Вообще «тематических» закусочных и рюмочных имелось много меньше, нежели обслуживавших студентов с разными интересами. Среди заведений с богемной направленностью накануне революции процветали поэтические кафе, вроде «Бродячей собаки». Они были местом встреч и знакомств начинающих художников с маститыми поэтами и писателями. Особую позицию в студенческом «релаксе» занимали каникулы и праздники — прежде всего профессиональные. В Москве — это Татьянин день, в Петербурге — 8 февраля (день Университета). Праздник начинался с торжественных собраний в высших учебных заведениях, а затем продолжался в ресторанах — с попойками, танцами и ночными гуляньями. Собирались не только студенты, но и профессура, выпускники прошлых лет. Последнее позволяло, подобно немецким студенческим пивным ритуалам, завязывать полезные для будущей карьеры контакты с влиятельными в мире политики, бизнеса, искусства и академии людьми[179]. Кроме того, праздник разрушал, до известной степени, субординацию (или ее ритуалы) между студентами и профессорами. Возможно, это позволяло иногда разрешать разного рода политические недоразумения и конфликты либо даже избегать их. Наконец, необходимо учитывать и еще одну символическую функцию такого праздника — поддерживать культ традиции и alma mater, постоянно заново конституировать обе вузовские корпорации и «патриотизм» конкретного института. До войны каникулы означали разъезд студенчества по домам, пусть временный, но «распад корпоративного тела». Однако после 1 августа 1914 года далеко не для всех это стало возможно. Студенты оставались в городах, подрабатывая в различных частных и государственных учреждениях[180]. В первые послеоктябрьские годы тенденция вновь переменилась: из голодного Петрограда буквально бежали в сельскую местность и в малые провинциальные города[181]. Кроме того, государственная власть стремилась использовать освобождающихся студентов в качестве сельских школьных учителей и ревизоров сельских школ от Наркомата просвещения[182]. Но учащиеся всему предпочитали поездку к родственникам.