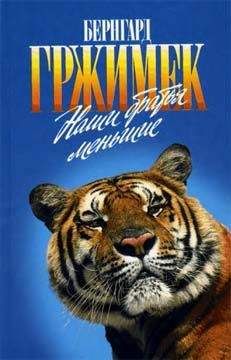Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений
Разумеется, по своему назначению и месту в структуре «Критики чистого разума» это высказывание – в первую очередь поясняющая «служебная» метафора. И все же видеть в кантовском уподоблении знания зданию всего лишь фигуру речи было бы неосмотрительным упрощением. В философской позиции Канта, которую приведенный фрагмент суммирует достаточно полно, присутствуют по меньшей мере две примечательные черты, позволяющие прояснить логику дальнейшего развития европейской культуры. Во-первых, эта позиция является манифестом индивидуальной мировоззренческой автономии – внутренней независимости свободного «физического лица» в постоянно трансформирующемся информационном поле. В этом смысле она предвосхищает продолжающийся до настоящего времени процесс «социальной атомизации» общества, который по отношению к городу проявляет себя в таких тенденциях, как переход роли общественного пространства к СМИ и другим средствам дистанционного кодированого (со)общения, а также постоянное расширение парка индивидуальных транспортных средств и, наконец, «растекание» пригородов (urban sprawl)[88], где бывший городской житель надеется обрести некий «приватный рай» для себя и своей семьи, сведенной к «нуклеарному минимуму». Знание-здание Канта – это именно «небольшой» частный дом, окруженный «умными стенами», которые состоят из тщательно подобранных и выверенных рациональных аргументов, гарантирующих этому дому надежную защиту от несанкционированных хаотических вторжений извне. Во-вторых, поддерживая косвенным образом традиционный онтологический приоритет («онтофанию») архитектуры через указание на «архитектоничность» как необходимую характеристику подлинной науки, Кант, конечно, озабочен вовсе не тем, чтобы вернуть собственно архитектуре ее утраченную роль, но прежде всего тем, чтобы установить новый устойчивый порядок в области дискурсивных практик (начиная со своей собственной деятельности) и тем самым поднять эту область на принципиально новую ступень. При этом он не просто метафорически переносит понятие архитектоники в сферу производства знаний, а существенно расширяет объем этого понятия, определяя архитектонику как «искусство построения систем»[89], то есть таким образом, что этот термин (архитектоника), в дополнение к своей прежней области приме нения (зодчеству), становится непосредственно применимым к организации науки – мыслительно-дискурсивного поля, сферы производства смыслов и означающих. Новаторский характер этого жеста и его роль индикатора определенного состояния культуры можно оценить, если учесть, что философским понятиям, которые Кант стремится «архитектонически» систематизировать, не соответствуют уже никакие наглядные представления: иными словами, гипостазирование абстрактных понятий в европейской культуре к концу XVIII века приобретает такие масштабы, что для приведения их в единство уже (с точки зрения Канта) требуется специальная дисциплина, аналогичная архитектурному проектированию, но имеющая дело с объектами, недоступными прямому чувственному восприятию.
Позицию Канта можно охарактеризовать как отдаленное историческое эхо платоновского идеализма, для которого идея – это не стерильная интеллектуальная абстракция (концепт), но предмет сверхчувственного созерцания. При этом, однако, Кант считает необходимым определить идею прямо противоположным образом, а именно – как нечто недоступное созерцанию, несовместимое с самой возможностью наглядного представления[90]. И тем не менее в выдвигаемом им требовании архитектоничности знаниевых систем сохраняется еще некоторая инерционная связь с эстетическим удовлетворением как критерием истинности-благости (апелляция к красоте архитектуры через понятие архитектоники напоминает аргументы Декарта), то есть «системность» как таковая остается для него еще как-то причастной к сфере чувственных интуиций и переживаний. В дальнейшем эта «запоздалая» эстетическая составляющая из практики построения систем постепенно испаряется под натиском машинизма, который неуклонно стремится свести все критерии «правильности» к общеупотребительным математическим стандартам, количественным параметрам и операциональной эффективности[91].
В системе Маркса и Энгельса архитектонический компонент сводится в основном к расслоению действительности на «базис» и «надстройку». Это, впрочем, не означает, что с исторической сцены исчезает сама традиция представления мира как здания или механизма – скорее наоборот. Проект «математизированной вселенной», предложенный естественными науками и подхваченный в качестве парадигматической канвы нарождающимися прикладными науками об обществе, выглядит в общих чертах настолько убедительно, что его дальнейшее уточнение – особенно с точки зрения расширяющего свое политическое влияние «третьего сословия» (буржуазии) – воспринимается как доработка деталей уже почти готового сооружения. Только таким преувеличенно оптимистическим отношением к достижениям науки можно объяснить категоричность вывода, которым Маркс завешает свои знаменитые «Тезисы о Фейербахе» (1845): «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»[92]. Для Канта мир в целом есть еще трансцендентальная идея, и потому он может быть только предметом познания, но не объектом воздействия (как целое). Для Маркса мир есть динамическая абстракция, непрерывно конкретизируемая в ходе человеческой деятельности (в первую очередь научно-технической и политической), а значит, по сути он всегда уже является объектом воздействия: задача теперь состоит в том, чтобы придать этому воздействию большую целенаправленность, то есть перейти к повсеместному строительству коммунизма.
Осуществить такого рода «онтологический захват» мира как целого (нелегитимный с точки зрения кантовской системы, но в значительной мере подготовленный сначала рационализмом Декарта, а затем диалектикой Гегеля) Марксу позволяет трактовка чувственного восприятия как деятельности[93], которая неизбежно подразумевает упразднение когнитивного различия между объектом и процессом. Иными словами, в XIX веке выясняется, что мир в целом может быть объектом воздействия, но для этого он должен быть именно таким миром, который внутри себя уже не расчленен (непреодолимо) на независимые объекты, а схватывается совокупно, как единый процесс становления. Но что же может служить опорой для предложенной Марксом преобразовательной деятельности в мире, освобожденном от прежней фрагментарности? В качестве таких опор выступают новые эволюционные концепции из репертуара естественной и политической истории, главным содержательным наполнением которых становятся те самые кодифицированные (опредмеченные в знаках и числах) статические представления процессов, с которых началась реформа естественных наук. В марксистской политэкономии по аналогии с ньютоновскими законами механики возникают, к примеру, «всеобщий закон капиталистического накопления» и универсальные формулы товаро-денежного оборота; в философии – «законы диалектического материализма», и т. п. Сам термин «закон» выражает при этом лишь одну сторону этих представлений, поскольку по существу речь идет о когнитивном структурировании процессов, то есть о «втискивании» их в устойчивые интеллигибельные контуры, как это происходит при проектировании линий поточного производства товаров. Каждое из подобных представлений, начиная с «законов природы», можно трактовать как локальное компромиссное разрешение фундаментального противоречия между незыблемостью закона и неуловимостью действующей силы, о котором шла речь в предыдущей главе. В известной степени этот тип представлений является историческим отзвуком аристотелевских концептов «энтелехии» и «энергии», но только в новоевропейской редакции они оказываются полностью «очищенными» от исходного метафизического содержания. Изгнание как интуитивно-наглядного (кантовская архитектоника), так и сверхчувственно-созерцательного (аристотелевская метафизика) компонентов из этих статических «сверток» мировых процессов превращает их в чисто знаковые феномены, то есть в нечто, всецело принадлежащее полю коммуникации и предназначенное исключительно для организационной координации практической деятельности; идеал познания как созерцательного восхождения к трансцендентному началу (или же гегелевского познания как самопознания Духа) после Маркса начинает восприниматься уже как наивный или даже реакционный пережиток[94]. На этом этапе в культуре окончательно устанавливается императив ускоренного преобразовательного действия и господство информации, которую Жан Бодрийяр через полтора столетия – из ситуации эпистемологического кризиса ХХ века – определит как источник разрушения и исчезновения смысла. Однако, даже будучи замкнутой в сфере эстетически нейтральной «знаковости», совокупность математизированных представлений мировых процессов продолжает притягиваться к пределу, за которым «мир как деятельность» вновь превращается в кантовскую «трансцендентальную идею», – и происходит это в силу неумолимой логики постоянного увеличения масштаба обобщений, которыми оперируют естественные науки.