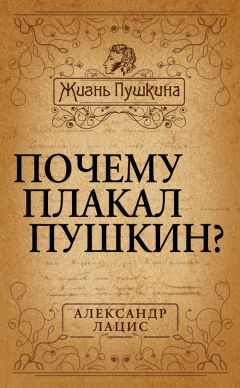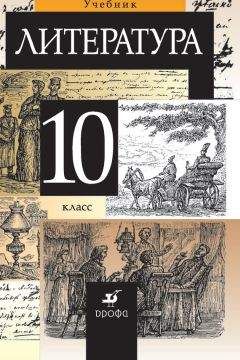Коллектив авторов - Пушкин в русской философской критике
Но если это так в тех случаях, когда художество воссоздает образы мира физического, то откуда возьмется иное отношение к миру нравственному? Если предметы нашего чувственного воззрения – формы математические – подлежат красоте и искусству в своем собственном качестве – прямое как прямое и кривое как кривое, круг как круг и треугольник как треугольник, и для красоты вовсе не безразлично, принимается ли данный предмет за самого себя или за что-нибудь другое и противоположное, – то откуда же вдруг явится такое безразличие относительно категорий нравственного порядка? Красоте подлежит все, что существует. Ей подлежат и прямые и кривые линии, ибо и те, и другие существуют. Но вот чего вовсе не существует и что, следовательно, не может принять и форму красоты, это – безразличие между прямотою и кривизною, так, чтобы можно было по произволу брать кривое как прямое и прямое как кривое; и еще менее возможно изобразить такую кривизну, которая была бы прямее прямоты. Красоте подлежат и добро и зло, так как и то и другое существует; но вот чего вовсе не существует и что, значит, не может принять форму красоты, это – безразличие между добром и злом, так, чтобы можно было считать их одно за другое; и еще менее возможно прекрасно изобразить такое зло, которое было бы предпочтительнее, лучше, добрее добра. После этого оставалось бы только искать того безобразия, которое было бы прекраснее красоты.
IX
Мир физический, в самом широком смысле этого слова, – мир ангелов и гадов, – представляется для поэзии непосредственно как предмет усиленного, повышенного и углубленного внимания – в интересе чисто созерцательном, причем, однако, уже и этот мир, будучи миром естественных различий, не допускает безразличного отношения к себе со стороны поэта (или художника вообще), – в том смысле, что если художник кисти или слова изобразит прямой полет ангела как кривое пресмыкание гада и наоборот, то он погрешит против истины, а тем самым и против красоты, – произведет нечто ложное и безобразное. Мир нравственный, мир свободного добра и зла, по самому своему существенному качеству уже сразу предстоит и поэзии не как предмет созерцательного внимания только, но и как предмет жизненного решения, ибо он по существу своему есть мир не различия только, но и противоборства. Кривая и прямая линия различаются друг от друга, но не борются между собою; добро и зло, правда и лукавство не останавливаются на теоретическом различии, а по необходимости вступают в деятельную борьбу; это для них совершенно существенно: если бы зло не противоборствовало добру, то оно не было бы злом, а было бы лишь натуральным явлением, как кривая линия или морской гад; но ведь оно в действительности вступает в борьбу с добром, показывая себя как действительное нравственное зло и тем открывая и добро как такое в нравственном его качестве; а без противоборства злу добро оставалось бы только естественным образом бытия, как прямая линия или как парящий в небесах ангел.
Но ведь нравственное добро и зло в их собственном качестве существуют в действительности, а следовательно, составляют и предмет поэзии именно в этом нравственном качестве. Странно было бы поэту внимательно созерцать морских гадов и небесных ангелов и закрывать глаза на человеческую жизнь, насквозь проникнутую нравственными категориями, всю состоящую из относительного движения по всем степеням злодейства и добродетели, между двумя неподвижными полюсами добра и зла. Ангелы небесные, в своем горнем полете, и гады морские, в своем подводном ходе, пребывают нравственно неподвижны, без внутренних перемен, а потому и со стороны поэта требуют только невозмутимого внимания; жизнь человеческая определяется внутренним нравственным движением в ту или другую сторону – или подвигом добра, или злодеянием, – а потому и от настоящего объективного поэта требует, кроме созерцания, – нравственной оценки, внутреннего движения – симпатии или антипатии. Ведь и злодейства, и подвиги добра существуют действительно в этой самой своей нравственной противоположности, и настоящий поэт, воспринимающий и передающий другим то, что есть, никак не может отвлечься от существенного противоборства добра и зла. Зло существует действительно, но по необходимости как отрицаемое и уничтожаемое. Поэт одинаково отступил бы от истины, и тем самым от красоты, и в том случае, если бы он принял и изобразил зло как уничтоженное теперь, а также и в том, если бы он не признал в нем отрицаемого и уничтожаемого. Внимательно созерцая кривой ход ползущего или плавающего гада, истинная поэзия не вздумает его исправлять, не станет отрицать или уничтожать кривой линии: и незачем, и не за что! Но, входя в область нравственную, приступая к двуногому гаду, или хотя бы только к грешному, лукавому и празднословному языку самого избранника, истинная поэзия не может отнестись к нему иначе как отрицательно, она должна признать его подлежащим уничтожению:
И вырвал грешный мой язык…
Чтобы раскрыть зрение и слух для более тонких и глубоких восприятий, не нужно было истреблять их органов, – высшей силе довольно было их коснуться. Тут нечего было истреблять, так как ни слабость зрения, ни тупость слуха не представляют ничего активно дурного – прямого греха тут нет. Заметим, однако, что и это раскрытие и поднятие немощных чувств на высшую ступень силы не происходит совсем безболезненно: зеницы отверзаются, как у испуганной орлицы, – такой испуг не может быть приятен; а также неприятно, когда уши вдруг наполняются шумом и звоном. Но если подъем немощных, хотя и безгрешных чувств связан с неприятными состояниями, то органы активного зла, или прямого греха, требуют, очевидно, не возвышения (это значило бы усиливать зло), а полного перерождения чрез подавление и истребление в них злого начала, что предполагает настоящее страдание, состояние прямо мучительное. Но нужен ли такой глубокий переворот нравственной природы, нужны ли такие муки нового рождения для поэта, баловня свободы, друга лени, каким в некоторой мере всегда оставался Пушкин? И совершилось ли в нем самом что-нибудь подобное в эпоху, когда написан «Пророк»? В таком вопросе автобиографический элемент, несомненно присутствующий в этом стихотворении, получает неверный смысл и преувеличенные размеры.
Я должен опять напомнить, что Пушкин лично никогда, ни в эту эпоху, ни прежде, ни после, не требовал ни от самого себя, ни от других того глубокого и полного нравственного перерождения, к которому он, однако, был-таки волей-неволей трагически приведен в три последние дня своей земной жизни; но за десять с лишком лет до того вопрос о духовном перерождении, о вырванном языке и о вынутом сердце, – все, что изображено во второй половине стихотворения «Пророк», – не имело и не могло иметь у Пушкина прямого автобиографического значения. А дело было, как мы знаем, вот в чем. Поэтическое самосознание Пушкина, созревшее и повышенное в силу внутренних и внешних причин, облеклось в минуту вдохновения величавым образом библейского пророка, – образом, подходящим, конечно, не ко всякому поэту, а лишь к тому идеальному, свыше призванному, для великого служения предназначенному поэту, для той высшей потенции творческого гения, которую в этом поднятом настроении ощущал в себе Пушкин. А раз этот образ вдохновенного и повышенного поэтического самосознания овладел душою Пушкина, то он уже был не волен распоряжаться им по своим мыслям и личным житейским опытам, а предоставлял ему свободно, или, что то же, по внутренней необходимости, полнее и полнее раскрывать все, что в нем содержится, весь его собственный смысл, от одного присущего ему положения переходя к другому, еще более глубокому и содержательному. Не будучи кем-нибудь из библейских пророков и еще менее Мухаммедом, пушкинский «Пророк» не есть также и какой-нибудь из поэтов, он не есть также и сам Пушкин, а есть чистый носитель того безусловного идеального существа поэзии, которое было присуще всякому истинному поэту, и прежде всего самому Пушкину в зрелую эпоху его творчества и в лучшие минуты его вдохновения. У него это существо поэзии находило свое чистейшее, беспримесное выражение, никогда не достигая, однако, ни у него, ни у другого какого-либо поэта своего полного жизненного воплощения. Но ведь мы говорим о стихотворении, где живая полнота и всецелость поэтического призвания раскрываются поэтически, а не осуществляются практически. И эта идея взята здесь на той высоте, в той тончайшей, разреженной атмосфере мысли, где сущность призвания поэтического сближается и сливается с чистейшею сущностью призвания пророческого, оставляя внизу исторические – национальные и личные – особенности всех пророков вместе с такими же особенностями всех поэтов.