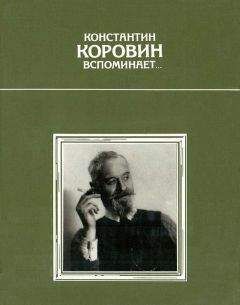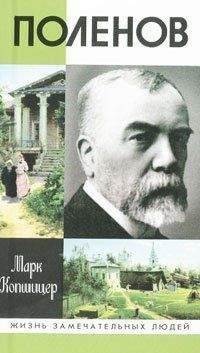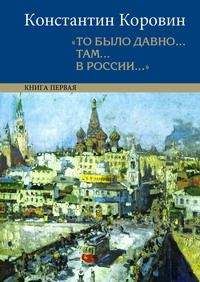Дмитрий Быков - Советская литература. Краткий курс
Мандельштам почти никого не хвалил. Он даже Ахматову однажды ругал в печати («столпничество на паркете»), что им не мешало дружить. Но о Зощенко он сказал: «У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду. Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!..»
С Мандельштамом спорить не принято. Но кто уж так-то втаптывал Зощенко в грязь в 1930 году, в год «Четвертой прозы»? Ругали, случалось, но как издавали! И не только его, но сборники критических статей, посвященных ему. Видимо, тут предвидение, каких у Мандельштама много: увидел же он в 1937 году «небо крупных оптовых смертей» и Вторую мировую, и сам не знал, что делать с этим наваждением. Так же увиделась ему участь Зощенко, хотя до проработки оставалось полтора десятилетия. Однако какие проколы и прогулы он умел демонстрировать читателю — вопрос не праздный. Дело в том, что Мандельштам за все время своей поэтической работы горячо похвалил от силы пять человек: Данте, Пастернака («Пастернака почитать — горло прочистить»), Зощенко, Вагинова и Яхонтова, и то последний удостоился хвалы не за тексты, а за их исполнение. Казалось бы, Мандельштаму — даже советскому — Зощенко с его подчеркнутым антиэстетизмом должен быть поперек души; а вот поди ж ты — ни для кого другого он не требует памятников в Летнем саду. За что ему все это?
И параллельно — вопрос не менее важный: почему Зощенко сегодня практически не читается? Выбираю именно эту двусмысленную формулировку: его не только не читают, но и сам текст сопротивляется, не играет прежними красками, как морской камень, вынутый из воды. Разумеется, смешное осталось смешным, — но вспомним, как действовал Зощенко на современников. Это был гомерический хохот, цитирование наизусть, вырывание свежего номера «Смехача» или «Бегемота» из рук счастливца-подписчика.
Разгадка, видимо, в том, что Зощенко был по-настоящему понятен только читателю — хотя бы и самому непросвещенному, — который помнил прежнее время или по крайней мере прежнее словоупотребление; только тому, для кого его знаменитый сказ — манера, вызвавшая к жизни бесчисленных подражателей, среди которых называли и Бабеля, — был не только замечательной имитацией новой речи, но и свидетельством разложения старой. Обыватель, который зачитывался рассказами Зощенко, воспринимал подтекст, нам уже недоступный: для нас эта речь — норма, а по сравнению с нынешним волапюком большинства она, пожалуй, еще и сложна и цветиста. Мы понятия не имеем о втором члене сравнения — о речи Серебряного века, который был прекрасен хотя бы и в пошлости своей. Зощенко вызывал восторг у интеллигентного читателя и ненависть у властей именно тем, что каждым своим словом свидетельствовал о прежних временах, напоминал о них, показывал бездны советского падения — видимые лишь тому, кто знал поздний русский романтизм.
Зощенко и есть по преимуществу романтик, и это его происхождение — сосредоточенность на проблематике, стилистике, даже и быте русского предреволюционного ренессанса — было очевидно и для друзей, и для врагов. Подозреваю, что именно здесь — разгадка его тайны.
2Он принадлежал к поколению, которому адаптация к новой эпохе далась трудней всего: к семнадцатому году они сформировались, успели повоевать, а самый впечатлительный их возраст пришелся на небывалый расцвет русского… чего же русского? Русского всего. Не сказать чтобы это была только культура: было и бескультурье. У нас, пожалуй, один Олег Ковалов в фильме-коллаже «Остров мертвых» увидел Серебряный век как исключительный синтез элитарного искусства и отъявленного, разнузданного масскульта; и, пожалуй, этот масскульт молодые воспринимали прежде всего. В нем есть пошлятина, конечно, как и в самом эстетском доме петербургского модерна жили тараканы; но в величайших исторических бурях только эти тараканы и выжили — и остались свидетельством великой эпохи. Строго говоря, среди прозаиков этого поколения реализоваться, постранствовать, повоевать и даже напечататься до революции успели четверо, и они представляют наибольший интерес — по крайней мере для меня: это Зощенко, Бабель, Катаев и Булгаков. И что интересно, каждый несет на себе отпечаток того прекрасного, невыносимо напряженного, навеки утраченного мира, каким был для интеллигентного юноши русский Серебряный век: интеллигентские квартиры в Киеве и Петербурге, бандитский и меценатский, торговый и дачный быт Одессы — всем этим они были отравлены на всю жизнь и только об этом всю жизнь писали. Отравленный — вот самое точное слово для Зощенко, и в его биографии есть тому буквальная иллюстрация: он всю жизнь страдал от нескольких глотков ядовитого воздуха во время германской газовой атаки. Пока он схватил противогаз, зеленая сладковатая тошная дрянь успела заползти ему в легкие. Катаев, кстати, тоже хлебнул фосгена.
Случай Булгакова — особый интерес именно к мистике, которой Серебряный век буквально бредил, и к религиозной философии, которой в России до того, по сути, не было. Эти увлечения в среде интеллигентной молодежи были, положим, поверхностны, вплоть до спиритических сеансов, — но важна ведь атмосфера, тайна, сочетание игры и нового, почти потустороннего опыта; Булгаков вырос, конечно, не из Ренана и уж точно не из Гофмана, а из Мережковского, и сама идея философского мистического романа на историческом материале, с обильными евангельскими аллюзиями, романа, в котором приключения героев — лишь бледный отсвет приключений Мировой души… разве это не «Христос и Антихрист», настольная книга умных гимназистов десятых годов? Разве полет Маргариты в «Мастере» не взят почти дословно — думаю, бессознательно — из сцены шабаша в «Леонардо да Винчи»? Тема эта — Мережковский и Булгаков — почти не разработана, если не считать пары упоминаний у Майи Каганской и основательной статьи саратовского филолога Татьяны Дроновой; но корни Булгакова — и Зощенко с его интересом к истории и философии — безусловно тут.
Случай Катаева — вечная отравленность предреволюционной прозой Бунина с ее упоением точностью, вещественностью, плотностью, и все это в соседстве неотступного ужаса смерти, разрушения, упадка. Катаев — восторженный живописатель прекрасных, вкусных вещей — все время жаждет задержать время, потому что не понимает, за что обязательно надо всего лишаться и будет ли что-нибудь взамен. Катаевские корни — одесская литературная богема, кружок гимназистов, бредящих стихами, читающих на дачных эстрадах, и эта закваска — одесский материализм в удивительном сочетании с абсолютным и бескомпромиссным литературоцентризмом — осталась в нем навсегда. Отсюда и сочетание его успешной советской карьеры с вечной и горькой неудовлетворенностью на грани отчаяния, — по-настоящему все это зазвучало, конечно, только в поздней прозе.
Случай Бабеля технически проще — виднее, как сделана его проза: прочитанные в детстве французы — Мопассан и в особенности Золя — плюс усвоенный в детстве ритм талмудической фразы. Так получается этот библейский натурализм — а Библия ведь стесняется еще меньше, чем Золя, то есть ей вообще стесняться нечего. О том, как связано все это с литературным бытом предреволюционной Одессы и Питера, Бабель сам поведал в «Гюи де Мопассане» и «Ди Грассо».
Случай Зощенко в стилистическом отношении самый интересный. Тут действительно «проколы, прогулы», потому что наслоений больше, чем у всех современников. Вопреки штампу, главную часть зощенковского сказа, основу его словаря составляет вовсе не канцелярит первых лет советской власти: речь мещанина — это прежде всего ложные красивости, усвоенные из паралитературы, кинематографических титров и рекламы, из душераздирающей бульварщины и газетных отчетов о происшествиях. Герой Зощенко всего этого нахватался до революции — ибо автор все это активно потреблял. Почему? Не потому, конечно, что Зощенко любит пошлость; точней, он любит ее, но именно за хармсовскую «чистоту порядка», беспримесность, стилистическую цельность. Его восхищает — как художника с врожденным вкусом — душещипательная литература, романсовые красивости ему милей подлинной поэзии, поскольку в подлинной поэзии нет той бескомпромиссности. Там есть случайные и проходные слова — романс их не терпит: в нем каждое слово ложь и каждое — надрыв. Назар Ильич господин Синебрюхов — чьи «Рассказы» Зощенко напечатал в 1922 году — еще не владеет советской речью, она не успела состояться, он оперирует только штампами минувшей эпохи. «Я крохобором хожу по разным святым местам, будто преподобная Мария Египетская», «случилось со мной великосветское приключение, и оттого пошла моя жизнь в разные стороны», «случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и посейчас бодрюсь», «вполне ты прелестный человек», «прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие — вилла „Забава“», «ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство», «ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и подлую ее ручку целовал» — все это, вкупе с откровенно лубочными либо кинематографическими сюжетами, никак еще не советская речь, а стилизация крестьянского говорка из Белого или даже раньше, из народного романа, из милорда глупого. Зощенко вообще почти ничего не заимствует из высокой литературы — он всегда имеет дело с низовым, самым презираемым слоем масскульта; но этот-то масскульт и сохранился, когда, по выражению Маяковского, «кругом тонула Россия Блока». «Нами оставляются от старого мира только папиросы „Ира“», — заявлял Маяковский; ах, как бы не так! Папиросы, мыло, синематограф, а из прозы — да весь пролетариат зачитывался не пролетарскими поэтами, не «Цементом», а «Ключами счастья» Анастасии Вербицкой, этого худшего и популярнейшего прозаика десятых годов. Это хуже Арцыбашева, у которого, случалось, «в темноте белели белые стволы берез». Но Зощенко называет свою главную вещь именно «Ключи счастья» — а перед публикацией, не желая, видимо, ассоциироваться с вовсе уж графоманской эпопеей, дает ей название «Перед восходом солнца». Тоже ведь заемное название, отсылающее все к тому же Серебряному веку — к драме Гауптмана «Перед восходом солнца» (1889), а Гауптман был в России едва ли не моднее Ибсена. Правда, «Перед восходом солнца» — довольно, на мой вкус, плохая пьеса. Квинтэссенция пошлости в духе fin de siècle, причем после нее особенно видно, откуда растут ноги у горьковских «Мещан»: вся расстановка сил налицо, только у Гауптмана прогрессивного нового человека зовут Лот, а у Горького — Нил. Но о том, почему Зощенко так любит именно пошлость, мы поговорим отдельно.