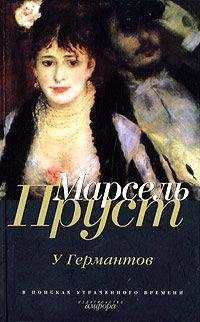Леонид Андреев - Марсель Пруст
Вот может быть самый поразительный факт вялости, притупленности социального мышления Пруста, его органической неспособности или полного нежелания проникать в социально-политическую сферу человеческого бытия. Даже в части, касающейся войны, Пруст старается обойтись без выражения своего отношения к событиям, пытается показать преимущественно реакцию своих персонажей, их отношение к войне, их разговоры и споры. Разразилась война, но «Вердюрены продолжали давать обеды…». Пруст придерживается и здесь своего принципа отдаленного отражения событий в жизни своих персонажей, в жизни парижских салонов.
Итак, мир рассказчика в целом лишь очень слабыми, часто скрытыми нитями связан с исторической эпохой, которая скорее угадывается по намекам, чем рисуется, которая словно «где-то», «рядом». В исходном принципе искусство Пруста поэтому отлично от реалистического принципа с его осознанной конкретно-исторической, социально-конкретной основой. Это, однако, не исключает отдельных конкретно-исторических элементов в романе Пруста. Создание Пруста противоречиво, оно еще связано, повторяем, с властвующим над сознанием этого художника опытом реализма, но уже пытается противопоставить этому опыту безраздельное господство «я» и соответствующий субъективизму эстетический принцип. Это уже не «прием», а метод Пруста.
Прикованность повествования к «я» особенно убедительна тогда, когда воспроизводится своеобразный угол зрения человека больного, замкнутого, сосредоточенного в себе, сожалеющего о прошлом. Это бесспорная психологическая и даже социальная конкретность, делающая роман Пруста оригинальным жанром психологического романа, находящего адекватную форму для последовательного воспроизведения эгоцентрической личности. Но Пруст пытается придать частному, единичному случаю значение закона и построить обязательную философскую, этическую, эстетическую программу. Она вызревала в течение всей творческой деятельности Пруста, она вызревает и в романе «В поисках утраченного времени», от тома к тому.
В особенности к концу романа, в заключительной его части «Найденное время», Пруст доказывает свой идеалистический способ «нахождения времени». Повторяя идеи, сформулированные в работе «Против Сент-Бёва», развивая их, Пруст пишет, что запах может вызвать поток воспоминаний, возбудить живой облик прошедшего, прожитого, которое оказывается и прошлым, и настоящим, т. е. «временем в чистом состоянии», сущностью «я», оживающей в этом состоянии вне времени и вне пространства. «Минута, освободившаяся от порядка времени, воссоздает в нас, в нашем ощущении, человека, свободного от порядка времени», — читаем мы в романе. Эта «вневременная» сущность может быть вызвана к жизни только памятью «непроизвольной», «инстинктивной»: Пруст вновь повторяет, что разум и сознательно действующая память совершенно бессильны.
Так возникли в романе знаменитые эпизоды, которые для Пруста имеют важнейшее значение начала всех начал, — например, эпизод с чаепитием, когда вкус печенья, знакомого с детства, вызывает к жизни весь поток воспоминаний, весь поток вдруг ожившего, ощущаемого прошлого, которое властно вторгается в настоящее и заменяет его подлинной, с точки зрения Пруста, жизнью в воспоминании.
«…Много лет уже, как от Комбре для меня не существовало ничего больше, кроме театра драмы моего отхода ко сну, и вот, в один зимний день, когда я пришел домой, мать моя, увидя, что я озяб, предложила мне выпить, против моего обыкновения, чашку чаю. Сначала я отказался, но, не знаю почему, передумал. Мама велела подать мне одно из тех кругленьких и пузатеньких пирожных, называемых Petites Madeleines, формочками для которых как будто служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков. И тотчас же, удрученный унылым днем и перспективой печального завтра, я машинально поднес к своим губам ложечку чаю, в котором намочил кусочек мадлены. Но в то самое мгновение, когда глоток чаю с корками пирожного коснулся моего нёба, я вздрогнул, пораженный необыкновенностью происходящего во мне. Сладостное ощущение широкой волной разлилось во мне, казалось, без всякой причины. Оно тотчас же наполнило меня равнодушием к превратностям жизни, сделало безобидными ее невзгоды, призрачной ее скоротечность, вроде того, как это делает любовь, наполняя меня некоей драгоценной сущностью: или, вернее, сущность эта была не во мне, она была мною. Я перестал чувствовать себя посредственным, случайным, смертным. Откуда могла прийти ко мне эта могучая радость? Я чувствовал, что она была связана со вкусом чая и пирожного, но она безмерно превосходила его, она должна была быть иной природы. Откуда же происходила она? Что она означала? Где схватить ее? Я пью второй глоток, в котором не нахожу ничего больше того, что содержалось в первом, пью третий, приносящий мне немножко меньше, чем второй. Пора остановиться, сила напитка как будто слабеет. Ясно, что истина, которую я ищу, не в нем, но во мне. Он пробудил ее во мне, но ее не знает и может только бесконечно повторять, со все меньшей и меньшей силой, это самое свидетельство, которое я не умею истолковать и которое хочу, по крайней мере, быть в состоянии вновь спросить у него сейчас, вновь найти нетронутым и иметь в своем распоряжении для окончательного его уяснения. Я оставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Он должен найти истину. Но как? Тяжелая неуверенность всякий раз, как разум чувствует себя превзойденным самим собою; когда, совершая поиски, он представляет собой всю совокупность темной области, в которой он должен искать, и в которой его багаж не сослужит ему никакой пользы. Искать? Не только: творить. Он находится перед лицом чего-то такого, чего нет еще и что он один может осуществить, а затем ввести в поле своего зрения.
И я снова начинаю спрашивать себя, какой могла быть природа этого неведомого состояния, приносившего не логическую доказательность, но очевидность блаженства, реальности, перед которой меркла всякая другая очевидность. Я хочу попытаться вновь вызвать его. Я мысленно возвращаюсь к моменту, когда я пил первую ложечку чаю. Я вновь испытываю то же состояние, но оно не приобретает большей ясности. Я требую, чтобы мой разум совершил еще усилие, еще раз вызвал ускользающее ощущение. И чтобы ничто не разрушило порыва, в котором он будет стараться вновь схватить его, я устраняю всякое препятствие, всякую постороннюю мысль, я защищаю мои уши и мое внимание от шумов из соседней комнаты. Но чувствуя, что разум мой утомляется в бесплодных усилиях, я принуждаю его, напротив, делать как раз то, в чем ему я отказал, т. е. отвлечься, думать о чем-нибудь другом, оправиться перед совершением последней попытки. Затем второй раз я устраиваю пустоту около него и снова ставлю перед ним еще не исчезнувший вкус этого первого глотка, и я чувствую, как во мне что-то трепещет и перемещается, хочет подняться, снимается с якоря на большой глубине; не знаю, что это такое, но оно медленно плывет кверху; я ощущаю сопротивление, и до меня доносится рокот пройденных расстояний.
Несомненно, то, что трепещет так в глубине меня, должно быть образом, зрительным воспоминанием, которое, будучи связано с этим вкусом, пытается следовать за ним до поверхности моего сознания. Но оно бьется слишком далеко, слишком глухо; я едва воспринимаю бледный отблеск, в котором смешивается неуловимый водоворот быстро мелькающих цветов; но я не в силах различить форму, попросить ее, как единственного возможного истолкователя, объяснить мне показание ее неразлучного спутника, вкуса, попросить ее научить меня, о каком частном обстоятельстве, о какой эпохе прошлого идет речь.
Достигнет ли поверхности моего ясного сознания это воспоминание, это канувшее в прошлое мгновение, которое только что было разбужено, приведено в движение, возмущено в самой глубине моего существа притяжением торжественного мгновения? Не знаю. Теперь я больше ничего не чувствую, оно остановилось, может быть вновь опустилось в глубину; кто знает, вынырнет ли оно когда-нибудь из тьмы, в которую оно погружено? Десять раз мне приходится возобновлять свою попытку, наклоняться над ним. И каждый раз малодушие, отвращающее нас от всякой трудной работы, от всякого значительного начинания, советовало мне оставить попытку, пить свой чай, думая только о своих сегодняшних неприятностях и завтрашних планах, на которых так легко сосредоточить внимание.
И вдруг воспоминание всплыло передо мной. Вкус этот был вкусом кусочка мадлены, которым по воскресным утрам в Комбре (так как по воскресеньям я не выходил из дому до начала мессы) угощала меня тетя Леония, предварительно намочив его в чае или в настойке из липового цвета, когда я приходил в ее комнату поздороваться с нею. Вид маленькой мадлены не вызвал во мне никаких воспоминаний, прежде чем я не отведал ее; может быть оттого, что с тех пор я часто видел эти пирожные на полках кондитерских, не пробуя их, так что их образ перестал вызывать у меня далекие дни в Комбре и ассоциировался с другими, более свежими впечатлениями; или может быть оттого, что из этих, так давно уже заброшенных воспоминаний ничто больше не оживало у меня, все они распались; формы — в том числе раковинки пирожных, такие ярко чувственные, в строгих и богомольных складочках — уничтожились или же, усыпленные, утратили действенную силу, которая позволила бы им проникнуть в сознание. Но, когда от давнего прошлого ничего уже не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни только, более хрупкие, но более живучие, более невещественные, более стойкие, более верные, запахи и вкусы долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжают, среди развалин всего прочего, нести, не изнемогая под его тяжестью, на своей едва ощутимой капельке, огромное здание воспоминания.