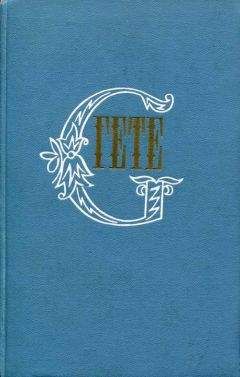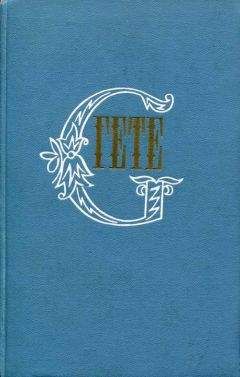Дирк Кемпер - Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна
В. «Страдания молодого Вертера»
На примере Геца фон Берлихингена мы могли показать лишь отдельные грани современной концепции личности и ее проблематики, поскольку этот исторический сюжет из домодернистского прошлого вобрал в себя лишь отдельные аспекты модернистского сознания. Если одни черты героя драмы неопровержимо свидетельствует о значении посессивного индивидуализма, то другие не менее отчетливо отсылают к домодернистской эпохе исторического Геца. Каковы эти до-модернистские черты? Отвечая на этот вопрос, мы одновременно покажем, что наиболее существенные, специфически модернистские аспекты проблемы индивидуальности получают развитие лишь в Вертере.
Хотя в конце драмы Гец сам сознает, что его приверженность образу жизни и самосознанию свободного рыцаря представляет собой анахронизм, он все же ни минуты не сомневается в правильности своего миропонимания. Его уверенность основана, в первую очередь, на том, что он понимает свою личность как часть социальной системы средневекового рыцарства, в которой ему отведено определенное и четко очерченное место, что означает и наличие определенных традиционных прав, таких, например, как право совершать рыцарские набеги. Эта социальная роль Геца не является результатом его личного выбора, не порождена его сознанием, она завещана ему и за ним сохраняется по вековой традиции. Свойства его личности во многом определены его принадлежностью к социальному сословию, его верностью отведенной ему социальной роли.
Для Вертера ничего подобного не существует. Напротив, образ, который он создает о самом себе, рождается из протеста против ролевых реакций, которые от него ожидаются, и его отношение к социальному строю жизни определяется уже не его общественным положением, а стремлением вырваться за рамки того места, которое ему традиционно отведено в сословном обществе. Вот почему традиционные пути самоопределения и самоидентификации перед Вертером закрыты – он не может больше найти самого себя на том месте, которое отведено ему его социальной средой. Если же образ Я и образ мира, это Я в себя включающего, не могут более быть созданы путем обращения к внешним условиям жизни, то остается лишь путь, ведущий вовнутрь самого себя, в то внутреннее пространство личности, где должен состояться процесс ее самообретения. В Вертере такой характерный для эпохи модерна поворот к внутреннему миру имеет программное значение: «Я ухожу в себя и открываю целый мир»[194], – пишет Вертер, резюмируя свои размышления об ограниченности и ничтожестве возможностей самореализации в мире внешнем.
Поворот «in interiorem hominem» и отказ следовать традиционным социальным обязательствам – таковы ключевые моменты воплощенного в Вертере нового индивидуального самосознания, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Наш тезис заключается в том, что в тексте романа этот концепт обнаруживает свою двойственность: с одной стороны, он ведет к экспериментальной радикализации и к светлому торжеству нового индивидуального чувства (которое одновременно является и специфическим чувством молодости), с другой же, развертывание этого концепта выявляет заключенные в нем проблемы и опасности. На первой ступени исследования мы обратимся к анализу нового чувства индивидуальности, на втором этапе будут рассмотрены проблемы и апории, обусловливающие и объясняющие кризис и крах Вертера.
1. Эксклюзионная индивидуальность
Итак, модернистская индивидуальность, каким образом она себя осмысляет? Прежде всего, специфически модернистским является модус ее самоопределения, который Никлас Луман называет переходом от инклюзионной к эксклюзионной индивидуальности[195]. «Решающей чертой модерна»[196] в осевой период около 1800 года Луман считает глубокие изменения в формах социальной дифференциации. В предшествующих общественных системах дифференциация носила стратификационный характер, то есть происходила на основе разделения общества на слои, касты и сословия. Они определяли принцип связи отдельного лица с его социальным окружением; они регулировали его права и обязанности, предопределяли систему оказываемых обществу и получаемых от него услуг и гарантировали тем самым интеграцию в ту или иную частную подсистему. Осуществлялась такая интеграция в семье или в доме, причем отдельный человек чувствовал себя принадлежащим только к одной определенной подсистеме, то есть к своему социальному слою или сословию.
Конститутивным принципом этого традиционного отношения между индивидом и обществом является инклюзия, полная и длящаяся, как правило, всю жизнь включенность индивида в ту или иную подсистему стратифицированного общества. Результатом этих отношений выступает определенный тип домодернистской индивидуальности, которую Луман связывает с понятием инклюзии, именует инклюзионной индивидуальностью[197]. Личное самосознание означает в этом случае осознание своего места в подсистеме, т. е. – в кричащем противоречии с нашими сегодняшними представлениями – не что иное, как осознание своей заданной извне включенности в отведенную структуру. Так оценивает себя, например, Гец, идентифицирующий свою личность по ее принадлежности социальному сословию свободного рыцарства.
На совершенно иных основаниях строится система современного общества, в которой господствует функциональная дифференциация. По мере разложения застывших стратификационных структур зарождается новое чувство свободы, новое представление о внесословных правах человека, увеличивается социальная мобильность, возрастает свобода выбора своего жизненного пути и т. д. Однако все эти возможности открываются перед личностью лишь постольку, поскольку она способна довольно длительное время оберегать себя от притязаний и требований, предъявляемых обществом. Конститутивный принцип такой позиции – эксклюзия, которая, с другой стороны, именно и позволяет индивиду включаться в более дифференцированные, более разнообразные отношения с обществом, выступая по отношению к нему в различных функциях. Если сословные или стратификационные отношения допускали доступ лишь к одной социальной подсистеме, то в современном обществе, с которым личность связана по функции, она имеет возможность вступать в функциональные связи с различными подсистемами одновременно, так как связь с одной из них, не исключает связи и с другими. Так, характер и степень причастности к системе общественного труда не детерминирует более характер и степень причастности к системе распределения политической власти (всеобщее избирательное право), не предопределяет с железной необходимостью степень причастности к системе культуры (опыты компенсации социального неравенства на пути организации общеобразовательной школы, образовательных учреждений для рабочих) и т. д. Лишь на этом фоне и могло возникнуть наше современное понимание индивидуальности, та индивидуальность, которую Луман называет эксклюзионной. Лишь теперь под индивидуальностью начинают подразумевать нечто уникальное, своеобразное, прежде всего нечто отдельное от социальной структуры и ей предшествующее – не следствие включенности в общество, а его предпосылку. Именно такой концепт личности впервые оказывается способным оправдать социальную девиантность, различные формы отклонения от социальной нормы, объяснить и узаконить возможность того, что личность отвергает социальные ожидания и избирает путь, резко отклоняющийся от предписанного.
Проецируя терминологию Лумана на первое письмо Вертера, можно утверждать, что его начало эффектно вводит мотив социальной эксклюзии:
Как счастлив я, что уехал![198]
Откуда Вертер уехал, от чего он освободился или почувствовал себя свободным? Первый ответ на этот вопрос читатель находит в упоминании о любовных отношениях Вертера с некоей «бедной Леонорой»[199], но очень скоро убеждается в том, что речь идет о более принципиальных вещах. Ключом к пониманию этого уже в начале романа становится сигнальное слово «одиночество»; Вертер наслаждается своим одиночеством, называя его «бальзамом для своего сердца»[200]. Под одиночеством подразумевается при этом не отрешенность отшельника, ибо Вертер живет в городе[201] и ведет переговоры по поводу наследства своей тетушки, а социальная ситуация абсолютной предоставленности самому себе, которая позволяет откладывать или прямо отвергать любые притязания, предъявляемые ему извне.
В первом же письме Вертер легкомысленно отмахивается от всех дальнейших вопросов, связанных с хлопотами о наследстве:
Короче говоря, я ничего не хочу об этом писать, скажи моей матушке, все будет хорошо[202].