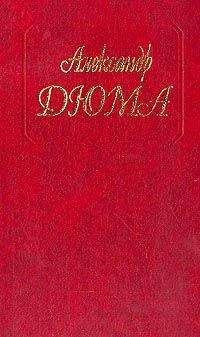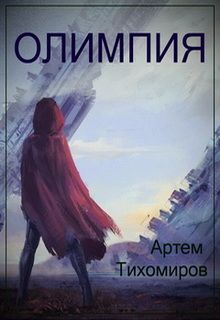Игорь Сухих - Русский канон. Книги XX века
Медленно и обстоятельно развертываясь в очередную сцену-картину, ритмически почти каждая глава заканчивается резким обрывом, точкой, короткой фразой-титром, восстанавливающей сюжетный пунктир и напоминающей о неизбежном финале. «Но вот теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода» (гл. 1). – «Помянешь, ох помянешь Матеру…» (гл. 5). – «Остров собирался жить долго» (гл. 6). – «Но он (Хозяин. – И. С.) видел и дальше…» (гл. 8). – «А впереди, если смотреть на оставшиеся дни, становилось все просторней и свободней. Впереди уже погуливал в пустоте ветер» (гл. 10). – «И тихо, без единого огонька и звука, как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяча последними избенками, горестная Матера» (гл. 18). – «Один выстоявший, непокорный “царский листвень” продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто» (гл. 19).
Бытовой сюжет в повести по мере развертывания очевидно трансформируется в идеологический и символический. «Прощание…» – книга об острове, времени и реке, земле, воде, огне и воздухе. В деревушке на Ангаре ненавязчиво завязываются узлы мировых проблем и конфликтов. Герои постепенно становятся участниками большого «сократического» диалога о последних вопросах бытия.
Распутин начинает с очевидного: несовместимости привычного существования старожилов на острове и жизни «на материке» (хотя туда-обратно уже летает самолет). Никто из старух не видел Москвы, потому с трудом верится, что туда пускают всех подряд. Побывавшая у дочери Дарья повествует о своих впечатлениях в манере издевательски-отчужденной». Я у дочери в городе-то гостевала – дивля: тут тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна – баня, хошь год на улицу не показывайся. Крант, так же от как у самовара, повернешь – вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом – нажмешь, жар идет… Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих – оне надо мной смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, возле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и дрожишь, мучишься, чтоб за столом не услыхали. И баня… какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного споласкивать. А оне ишо че-то булькаются, мокрые вылазят. Ох и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на дому, все есть, руки подымать не надо. И ишо этот… телехон заимей. Он тебе: дрынь-дрынь, а ты ему: ле-ле, поговорела, и опять на боковую» (гл. 2).
С такой интонацией простодушного удивления и превосходства сто лет назад странница Феклуша у Островского рассказывала о нехристях, людях с песьими головами, живущих в Турции.
Когда же другая старуха, Настасья, уезжает со своим Егором в специально построенный для переселенцев городок, а потом возвращается обратно, ее рассказ приобретает иной характер. Греть самовар на улице и таскать его в «фатеру на четвертоим поднебесьи» оказывается тяжело. «Лесенка не дай бог крутая. А у Аксиньи-то третье поднебесье – хошь и немного, а пониже. Там на кажный заулок по четыре дверки выходит, а у ей крайняя по левую руку, ежли наверх ползти. Дак мы до меня-то не дотащились, серце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим самоваром заехали. С ней там ишо одна старуха живет, та сильно худая, по ровному полу едва ходит. Ну, как мы засели – самовар-то опростали. Знам, что не подогреть будет – ну и давай, ну и давай».
Но смех вдруг оборачивается слезами. «Как домовой сделался. А сам плачет, плачет… – рассказывает Настасья о муже. – Он под послед совсем заговариваться стал. А сам без улишного воздуха извесь уже прозрачный сделался, белый, весь потончел. И дале боле, дале боле. На глазах погасал» (гл. 21).
Ушибленный непривычной жизнью, старик умирает, а Настасья бежит к товаркам на Матеру, в родную избу, к которой уже подступает вода.
В сущности, здесь идет речь о конфликте цивилизаций, хотя люди, принадлежащие к ним и говорят на одном языке. Несовместимость двух культур, двух образов жизни странна, смешна – и смертельна.
С собой старики берут «оказину – сундук, не приспособленный для дорог, изготовленный в старину на веки-вечные стоять на одном месте», и тот самый самовар, который с улицы придется таскать на четвертое поднебесье. «Самовар-то с собой берешь? – спросила Сима, показывая на вычищенный, празднично сияющий у порога самовар. – А как? – закивала Настасья. – Не задавит. Я его Егору не дала везти, на руках понесу. А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну. – Пошто нельзя?.. – Чтоб видел, куда ворочаться. Примета такая. – Нам тепери ни одна примета не подойдет, – отказала Дарья. – Мы для них люди негодные. А от догадался бы, правда что, кто самовар хошь одной в гроб положить. Как мы там без самовара останемся? – Там-то он нашто тебе? – Чай пить, нашто ишо?» (гл. 7).
Самовар – центр деревенской избы. «Из веку почитали в доме трех хозяев – самого, кто главный в семье, русскую печь и самовар. К ним подлаживались, их уважали, без них, как правило, не раскрывали белого дня, с их наказа и почина делались все остальные дела» (гл. 10). Дарья надеется, что самовар пригодится и на том свете. Но в городском быту он оказывается утомительной игрушкой.
Уже переехавший в новый дом с электроплитой и пока бездействующей ванной сын Дарьи, кажется, правильно предполагает: «Им легче, Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее – забьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам… Для нее этот новый поселок был не ближе и не родней, чем какая-нибудь Америка, где люди, говорят, чтобы не маять ноги, ходят на головах» (гл. 9).
Америка для сельских жителей Сибири шестидесятых-семидесятых годов прошлого века оказывается так же далека и нереальна, как столетием раньше для обывателей поволжского городка Калинова упавшая с неба Литва в «Грозе» Островского.
Распутина и других авторов «деревенской (онтологической) прозы» часто упрекали в идеализации патриархальной сельской жизни, в ее противопоставлении испорченному городу. В «Прощании…» это – подставная проблема. Удел человеческий не зависит от того, на чернозем или на асфальт занесла тебя жизнь.
Были ли остров «своим раем» или к жизни на нем просто привыкли, как привыкает кулик к своему болоту, муж – к нелюбимой жене, каторжник – к тачке? Уходя от восприятия персонажа, повествователь трезв и объективен. Картины бегущей на перекате воды, догорающей зари, летнего дождя, сияющего солнца сменяются видами старости, упадка, запустения. Но распутинские персонажи могли бы, наверное, повторить формулу молдавского «деревенщика» (И. Друцэ): «Большего у них не было, а меньшего они не хотели».
Встреча с «чужим раем» для Дарьи и других старух в любом случае оказывается страшнее. Но главная проблема повести – не встреча, а прощание.
Появляющиеся с материка на острове чужие, как и положено чужим, провожают Матеру в небытие весело, беззаботно или по-деловому равнодушно.
Исполняя указание, начинает зачистку территории санитарная бригада, не обращая особого внимания на то, что территория – материнское кладбище: «Да отцепись ты, бабка!.. Мне приказали, я делаю. Нужны мне ваши покойники» (гл. 3). «Официальное лицо из отдела затопления» товарищ Жук применяет привычную демагогию: «Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление, – знал Жук силу таких слов, как “решение, постановление, установка”, хоть и произнесенных ласково, – есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также кладбищ… Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию…»
Матера для «человеков со стороны» – зона, территория.
Позднее на остров нагрянет буйная веселая орда на уборку урожая. «Матере хватило одного дня, чтоб до смерти перепугаться; мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту. И когда постучали к Дарье два парня, она готова была пасть на колени: пожалейте, не губите христианскую душу. Но парни попросили луку, даже совали за него деньги и ушли; Дарья после, запомнив, выделяла их из всего войска… Худо ли, хорошо ли, но приезжие все-таки копошились, что-то делали, и хлеб потихоньку убирался. Хорошо работать они не могли; не свое собирают – не им и страдать» (гл. 16).
Последними из «чужих людей» на острове появляется бригада «пожогщиков». Они спокойно и старательно делают свое странное дело (не строят, а жгут, уничтожают), но, в общем, не чужды сострадания («Мужик, кашлянув, сказал: “Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем заняться. А завтра все… переезжайте. Ты меня слышишь?”»), и только непокорный листвень вызывает у них веселую злость.
Распутин, однако, не упрощает задачу, не проводит резкую границу между Матерой и материком, деревней и городом, своими и чужими. Первый пожар в деревне устраивают не пришлые поджигатели, а свой беспутный Петруха, человек без корней, перекати-поле. Потом он становится пожарным передовиком, незаменимым помощником властей, выполняющим любые задания. «А пьяница… че ж пьяница… Че бы вы делали без этих пьяниц?..» (гл. 22).