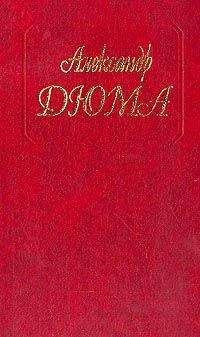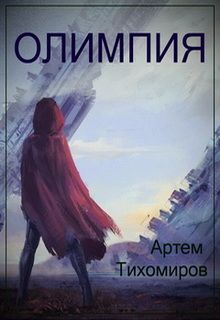Игорь Сухих - Русский канон. Книги XX века
Вдохновляемый мечтающей вырваться в какую-то другую жизнь женой (редкий у Шукшина пример женщины – соратницы и помощницы), он вместо «осточертевших передовиков» целый год пишет картину «Самоубийца», которой собирается потрясти мир. «Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг в один прекрасный день все узнают, что этот человек – гений. Ну, не гений, крупный талант».
Но неведомого шедевра не получается. Надежды разбиваются вдребезги после экспертизы лучшего художника города, который только-только начал пропивать свой здоровье. «– Костя!.. – окликнул он. – Ты чего? Брось ты так… Давно надо было позвать меня – не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться дружок, надо много уметь… Ну куда тебя к черту понесло – самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма. Ни реализма… Ничего. – Он посмотрел на картину. – Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема вовсе не твоя, вон ты какой… окорок, с чего вдруг самоубийство-то?»
Мимоходом, одним касанием (рассказ написан в начале семидесятых) Шукшин задевает проблему неофициального искусства. Голое «наоборот» оказывается ничем не лучше официальной «продажности». «Утро нашей родины» и «Самоубийца» стоят друг друга.
Картина – «мазня», фальшивая бумажка, вроде тех, за подделку которых артистичный герой попал в тюрьму. Но человеческая драма и боль от рухнувшей надежды – подлинны и даны Шукшиным без всякой насмешки, с сочувствием и пониманием. Еще одна душа корчится в спазмах невоплощения, пытается вырваться из оков своей маленькой судьбы.
Следующая точка, в которой Шукшин ловит в фокус своего героя, оказывается где-то на рубеже пятидесяти. Мечты, надежды, планы, любовь, трактаты, картины уже позади – наступает время сожаления и осмысления.
«– У тебя болит, што ль, чего? – Душа. Немного. Жаль… не нажился. Не устал. Не готов, так сказать» («Земляки»).
«Куда человеку деваться с растревоженной душой? Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим в эти. Круглосуточные, где их рвут. А с душой куда? Где тебя послушают, посочувствуют?» («Ночью в бойлерной»).
«Если бы однажды вот так – в такой тишине – перешагнуть незаметно эту проклятую черту… И оставить бы здесь все боли и все желания, и шагать, шагать по горячей дороге, шагать и шагать – бесконечно. Может, мы так и делаем? Возможно, что я где-то когда-то уже перешагнул в тишине эту черту – не заметил – и теперь вовсе не я. А моя душа вышагивает по дороге на двух ногах. И болит. Но почему же тогда болит?» («Приезжий»).
Может быть, это главный шукшинский вопрос.
Карамзин когда-то открыл: и крестьянки любить умеют.
Тургенев увидел в своих мужиках черты античных философов.
Шолохов рассмотрел Гамлета в донском казаке.
Благостный «мир», который писала «деревенская проза», взрывается у Шукшина вечными вопросами, мучающими обычных сельских жителей. Оказывается, душу придумали не священники или писатели, а над проклятыми вопросами бьются не только интеллигенты. Шукшинским трактористам и шоферам вполне знакомы и байроническая мировая скорбь, и рефлексия лишних людей, и бесконечная тяжба с миром персонажей Достоевского.
Они то возвращают творцу билет, то требуют билетик на второй сеанс, намереваясь прожить свою жизнь по-иному.
«Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается… Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! – Тимофей готов был заплакать злыми слезами. – Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Вон на земле-то… хорошо-то как! Разве ж я не вижу. Не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! – да растереть, вот и вся моя жизнь… Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мною делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали Сивку… Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая» («Билетик на второй сеанс»).
Полуразрушенная церковь, то опустевшая, то превращенная в склад или кинотеатр, часто оживляет пейзаж в шукшинском рассказе. Степка Рысь в «Мастере» безуспешно пытается ее отремонтировать. «Крепкий мужик» Шурыгин, наоборот, добивает. «Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут – вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и…»
В одном из лучших шукшинских рассказов, «Верую!», чтобы успокоить болящую душу, герой пытается заглянуть за церковную стену.
«По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая… Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать».
Свое состояние герой пытается объяснить жене («Но у человека есть так же – душа. Вот она – здесь, – болит! – Максим показывал на грудь. – Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит»), но нарывается на привычное агрессивное непонимание. «– Дура! – вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – требуха». Это привычная для шукшинского мужского мира ситуация. Жена – «неласковая рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. – С чего тоска-то?».
И тогда Максим приходит со своей тоской к «натуральному попу», родственнику соседа, по случаю оказавшемуся в деревне.
Батюшка оказывается интересным человеком, совсем не похожим на ожившее лампадное масло, изрекающее постные истины. Он похож на беглого алиментщика, лечится от легочной болезни барсучьим жиром, пьет спирт и, вместо утешений, обнажает перед Максимом собственную тоскующую душу. Как заправский софист, язычник Сократ, он сначала доказывает, что Бога нет, потом утверждает, что он все-таки есть, но искать его надо не там, где это обычно делают.
«Теперь я скажу, что бог есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Это – суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе – это, собственно и есть рай… Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад… Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю, Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других… Зло? Ну – зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких – “подставь правую”. Дам в рыло, и баста».
Потом поп признается в любви к Есенину («Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает»), «гудит» песню про клен заледенелый и начинает вместе с Максимом дикую пляску-радение.
«Поп легко одной рукой поднял Максима за шкирку. Поставил рядом с собой. – Повторяй за мной: верую! – Верую! – сказал Максим. – Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у! – Ве-ру-ю-у! – заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил: – В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!.. – Вместе заорали: – Ве-ру-ю-у! – Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую! – Верую-у! – В барсучье сало, в бычачьий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякоть телесную-у! – Оба, поп и Максим, плясали с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они – пляшут. Тут – или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами».
Пытающегося спастись на привычных путях героя батюшка-еретик берет за шкирку и снова выбрасывает в жизнь. Болезнь души на время приглушается мощной карнавальной пляской-взрывом. Эти злость и ярость когда-то сплотили разинские полки, взорвали страну в начале двадцатого века, а теперь рассасываются в томлении и бессилии.
«Верую!» – рассказ о дремлющей в простой русской душе стихийной силе, которая может быть направлена на что угодно, на созидание или самоистребление.
Соратником Шукшина в понимании русского характера оказывается вдруг внешне далекий от него Высоцкий со сходным типом героя, резкими бросками от смеха к воплю, жанром песни-баллады.
Душа болит, потому что взыскует смысла, потому что хочет праздника. Для одного таким праздником становится субботняя баня («Алеша Бесконвойный»), для другого – недолгая жизнь с женой-изменщицей («Беспалый»), для третьего – простая покупка верной жене («Сапожки»).