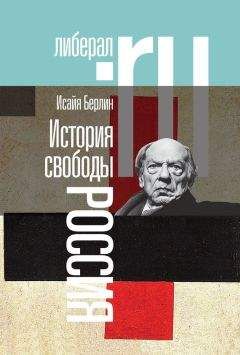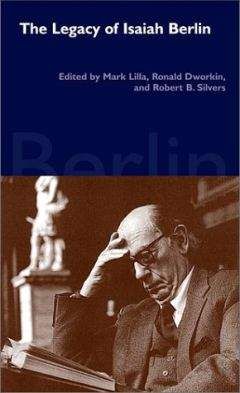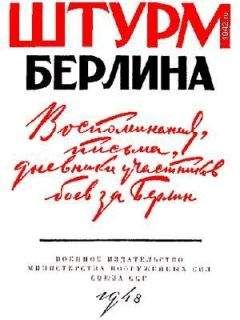Исайя Берлин - Философия свободы. Европа
Второй источник вышеупомянутой веры лежит еще глубже. Схемы развития или последовательности событий могут представляться как последовательность причин и следствий, которые может систематизировать естественная наука. Но иногда мы говорим, что что-то более глубокое, нежели эмпирическая связь (философы-идеалисты называют ее механической или внешней), придает единство формам или последовательным фазам, которые принимает существование рода человеческого. Мы говорим, например, что нелепо обвинять Ришелье в том, что он не поступал как Бисмарк, поскольку очевидно, что Ришелье и не мог поступать так, как человек, живший в Германии XIX века, и, наоборот, Бисмарк не мог достичь того, чего достиг Ришелье, потому что у XVII в. были свои особенности, совершенно отличные от особенностей XVIII в., которые, в свою очередь, определили особенности века XIX. Тем самым мы утверждаем, что этот порядок — объективен, а те, кто не понимает, что возможное в одном веке и в одной ситуации совершенно невозможно в другом веке и в другой ситуации, упускают самое важное в том порядке, которому не просто подчиняется, но может или даже должно подчиняться развитие социальных отношений, человеческого разума, экономики и так далее. Мы считаем, что утверждение: «"Гамлет" написан при дворе Чингисхана во Внешней Монголии» — не просто ложно, но абсурдно, а тот, кто, зная все существенные факты о «Гамлете», всерьез в это верит, не ошибается, но просто сошел с ума; другими словами, мы отвергаем с ходу такую гипотезу — но почему? Что значит «это нелепо», «этого быть не может»? Есть ли у нас научные, то есть эмпирико-индуктивные, основания?
Мне кажется, что мы называем такие предположения абсурдными (а не просто невероятными или ложными) потому, что они противоречат не тому или иному факту или обобщению, известному нам, но базовым представлениям, всецело определяющим то, в каких терминах мы думаем о мире, — базовым категориям, которые определяют такие наши центральные концепты, как «человек», «общество», «история», «развитие», «варварство», «взросление», «цивилизация», и т. п. Эти представления могут оказаться ложными или вводить в заблуждение (как было, с точки зрения позитивистов или атеистов, с теологией или деизмом), но их не опровергнут опыт или наблюдение. Они погибают и меняются лишь под влиянием тех изменений в общем облике человека, его среды или культуры, способность объяснять которые и есть главная задача всякой истории идей (и, в сущности, истории в целом).
То, о чем я веду речь, — глубоко запрятанное, широко распространенное с древних времен Weltanschauung[21], представление, что те или иные события, случаются в том или ином порядке. Мы принимаем это на веру, хотя, конечно, нет никаких гарантий, что тут скрывается истина. Оснований у нас несколько. Сам вертикальный порядок подсказывает нам, что события или социальные институты, скажем, XIV в. существовали до аналогичных событий и социальных институтов XVI в., и не просто так, а в силу необходимости (что бы мы под этим ни подразумевали): более того, они определили события и социальные институты XVI в. Если кто-то считает, что пьесы Шекспира написаны раньше, чем поэмы Данте, или что XV века вообще не было, а XVI шел сразу за XIV, мы сочтем, что он страдает известным недугом, качественно отличным от простой необразованности или неверной методики, который, к тому же, гораздо сложнее излечить. Говорим мы и о горизонтальном порядке, о взаимосвязанности разных аспектов на одной и той же стадии культурного развития. Заметили его немецкие философы культуры — такие антимеханицисты, как Гердер и его ученики (а до них Вико). Речь идет о «чувстве истории», то есть осознании, что, например, такое-то устройство права «внутренним образом связано» или даже едино с таким-то типом экономической деятельности, такой-то этикой, таким-то стилем письма, танца или богослужения. Именно благодаря этому чувству (какова бы ни была его природа) мы сознаем, что те или иные проявления человеческого духа принадлежат к данной эпохе, данной нации, данной культуре, хотя проявления эти могут быть несхожи друг с другом, как способ, которым человек пишет буквы на бумаге, несхож с оборотом земли в государстве, где этот человек живет. Без этого чувства, этой способности слова, вроде «типичный» или «нормальный», «несходство» или «анахронизм», не имели бы никакого смысла: мы не смогли бы говорить об истории того или иного социального института как о «понятной схеме развития», относить то или иное произведение искусства к той или иной эпохе или цивилизации и, в конце концов, понимать и объяснять, как одна фаза развития цивилизации «порождает» или «определяет» другую. Способность увидеть, что неизменно и едино в потоке изменений (философы-идеалисты, вероятно, сильно преувеличивали его объем), также играет решающую роль в том, что у нас есть эта самая концепция неизменных тенденций, однонаправленного течения истории. От такой концепции очень легко перейти к представлению (истинность которого гораздо труднее доказать), что все неизменное неизменно лишь потому, что подчиняется некоторым законам, а то, что подчиняется законам, может изучать наука.
Вот некоторые из многих факторов, заставлявших людей желать, чтобы история стала естественной наукой. Казалось бы, в XIX в. все было готово для этого чудесного превращения, — еще немного, и новая могучая наука положит конец хаотическому собиранию фактов, предположений и методов «научного тыка», о которых с таким презрением говорил Декарт и очарованные его научным мышлением последователи. Все было готово, но ничего существенного не произошло. Не был сформулирован ни один закон, даже сколько-нибудь верный принцип, согласно которому историк, зная изначальные условия, мог бы вывести, что случится в будущем или что было в прошлом. Чертежи великой машины, которая избавит историков от их тяжких трудов — поисков факта за фактом, объединения фактов в правдоподобную теорию, — оставались в воображении сумасшедших изобретателей. Великолепный инструмент, который, предоставь ему нужную информацию, сам бы систематизировал ее, сам бы делал нужные выводы и предлагал нужные объяснения, устраняя нужду в неточных, старомодных, ручных орудиях, с помощью которых историки, обливаясь потом, раскапывают безвозвратно ушедшее прошлое, оставался игрой воображения, подобно вечному двигателю. Ни психологи, ни социологи, ни амбициозный Конт, ни более скромный Вундт, никто не смог его создать; «номотетическая» наука — система законов и правил, в соответствии с которой нужно структурировать факты, чтобы возникло новое знание, — умерла, не родившись.
Одним из свойств естественной науки с полным правом считается способность ее к предсказанию, или для истории — послесказанию, заполнению пробелов в прошлом, порождению информации об эпохах и событиях, о которых мы не имеем прямых свидетельств, посредством экстраполяции, производимой в соответствии с теми или иными законами и правилами. Подобный метод применяется в археологии и палеонтологии, когда есть большие пробелы в знании и нет более достоверного пути к истине через прямые свидетельства. В археологии мы совершаем попытки связать наши знания об одном периоде с нашими знаниями о другом, предполагая, что должно было или, по крайней мере, могло произойти, чтобы одна фаза перешла в другую через множество промежуточных. Однако этот метод считают не слишком надежным, и к нему не прибегают, если можно хоть как-то обнаружить прямые свидетельства (в каком бы смысле это ни понимали), на которых и стоит знание об исторической эпохе, в отличие от доисторической. И уж конечно никто не назовет его «научной заменой» поиску свидетельств.
Если предположить, что такую науку можно создать, какой была бы ее структура? Вероятно, она представляла бы собой систему причинно-следственных или функциональных отношений типа «когда или где А, тогда или там Б», в которой подставлялись бы даты и места. У этой науки были бы две формы — «теоретическая» и «прикладная». «Теоретическая» наука о социальной статике или социальной динамике, существование которой (пожалуй, чересчур оптимистично) провозглашал Герберт Спенсер, была бы тогда парой к «прикладной» истории, подобно тому как механика — пара к физике или, по крайней мере, как диагностика болезней — пара к анатомии. Если бы такая наука существовала, она бы совершила подлинную революцию в старой кустарной истории, механизировала бы ее, как астрономия вывела из обихода допотопные методы звездочетов или как физика Ньютона заменила прежние космологии. Но такой науки нет. Прежде чем мы спросим, почему это так, вероятно, стоит рассмотреть различные аспекты, в которых история, как она писалась и как пишется по сию пору, отличается от естественных наук.
Позволю себе начать с того, что укажу на одно бросающееся в глаза различие между историей и естественными науками. Если в развитых естественных науках мы почитаем за благо больше полагаться на общие положения и законы, чем на данные тех или иных конкретных явлений (в самом деле, это же часть критерия рациональности), то в истории правило не действует. Вот простейший пример. Соображения здравого смысла заставляют нас сделать обобщение (я думаю, мы согласимся, что оно истинно): все нормальные жители этой планеты каждое утро могут видеть, как встает солнце. Предположим, что кто-то сказал нам, что как-то утром он, сколько ни пытался, этого не увидел. Поскольку, согласно правилам логики, единичное противоречие правилу означает несостоятельность правила в целом, человек этот счел, что истинность его тщательных наблюдений означает ложность не только доселе общепризнанного мнения (день чередуется с ночью), но и всего устройства небесной механики, да и всей физики, которая ставит своей целью объяснить причины этого явления. Такая удивительная мысль не покажется нам бесспорной. Прежде всего мы попытаемся сконструировать ad hoc объяснение, которое бы спасло нашу систему физики, хотя ее и поддерживают регулярные наблюдения, сделанные на протяжении веков, и выводы из них. Мы, наверное, могли бы сказать, что человек этот, скорее всего, смотрел не на ту часть неба, или солнце закрыли облака, или он отвлекся, или зажмурился, или спал, или бредил, или он неверно пользуется словами, или просто лжет, или шутит, или помешался. Будем предлагать и иные объяснения, согласующиеся с его наблюдением, но сохраняющие нашу систему физики как науки. Даже если мы выясним, что он сказал правду, неразумно сразу отказываться от физики, на создание которой человечество потратило столько усилий, мало того — неразумно даже пытаться ее менять. Конечно, если бы этот феномен повторялся и появлялись бы другие люди, которые никак не могли бы увидеть, как восходит солнце, то иные гипотезы или даже законы пришлось бы радикально менять, или полностью от них отказываться, или, наконец, заново выстраивать самый фундамент физики. Но мы бы согласились заняться этим только в самом крайнем случае. Если же, напротив, историк захотел бы подвергнуть сомнению — или оспорить — то или иное индивидуальное свидетельство, например, что Наполеон при Аустерлице был в треуголке, только на том основании, что он верит в теорию или закон, согласно которым французские генералы и главы государства никогда не носили треуголок в бою, без сомнений, слова его не встретили бы сколько-нибудь единогласного одобрения его коллег. Да и любое действие, стремящееся дискредитировать то или иное приемлемое свидетельство (скажем, объявляя его поддельным или убеждая, что фраза о треуголке вставлена позже), вызывает подозрения в том, что оно хочет подогнать факты под какую-то теорию.