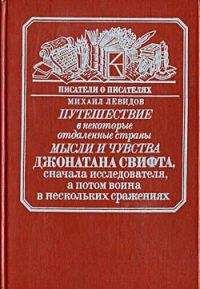Жан Бодрийяр - Сборник статей
Подобно тому, как модель — более истинное, чем истина (будучи квинтэссенцией многозначных штрихов ситуации), и доставляет головокружительное ощущение истины, так и мода имеет невероятное свойство более прекрасного, чем красота: очаровывающего. Производимое ею обольщение независимо от всякой оценки. Оно превосходит эстетическую форму в экстатической форме безусловной метаморфозы.
Эстетическая форма, в отличие от имморальной формы, всегда содержит моральное различение красоты и уродства. Если имеется секрет моды, по ту сторону чистых наслаждений мастерством и изысканностью, то таким секретом является имморальность, суверенность эфемерных моделей, хрупкая и всеобщая страсть, исключающая всякое чувство, произвольная, поверхностная и регулярная метаморфоза, исключающая всякое желание (если только само исключение не является желанием).
Если таково желание, то разрешается предполагать, что в социальной области так же, как и в политической, и во всех иных областях, отличных от красоты, желание охотнее всего устремляется к имморальным формам, одинаково затронутым потенциальным отрицанием всякого суждения о ценности и еще более обреченным на такую экстатическую судьбу, которая отрывает вещи от своего “субъективного” качества для того, чтобы предать их единственной притягательной силе удвоенного штриха, удвоенного определения, отрывающего их от своих “объективных” причин, чтобы предать их единственной силе разбушевавшихся эффектов.
Всякое свойство, возвышенное таким образом до превосходящей силы, вовлеченное в спираль удвоения, — более истинное, чем истина, более красивое, чем красота, более реальное, чем реальность, — застраховано от эффекта головокружения, независимого от всякого содержания или от всякого чистого качества, и оно становится сегодня нашей единственной страстью. Страсть удвоения, эскалации, восхождения к власти, экстаза — некоторого качества, которое, переставая соотноситься со своей противоположностью (истина лжи, красота безобразного, реальность воображаемого), становится высшей властью, положительно величественной, ибо оно как бы поглощает всю энергию своей противоположности. Вообразите красоту, которая поглотила всю энергию уродства: вы получите моду… Вообразите истину, которая поглотила бы всю энергию лжи: вы получите симуляцию…
Головокружительно самообольщение, происходящее в эффекте не простой, а удвоенной, вызывающей или сущностно фатальной привлекательности — “Я не красива, я хуже”, — говорила Мари Дорваль.[45]
Мы соскользнули в модели, в моду, в симуляцию: возможно, Каюа[46] со своей терминологией был прав, и вот уже вся наша культура скользит от игр состязательных и экспрессивных к играм рискованным и головокружительным. Само сомнение, по существу, толкает нас к головокружительному сверхразмножению формальных качеств, стало быть, к форме экстаза. Экстаз есть чистое качество любого тела, которое вращается вокруг себя самого вплоть до обессмысливания и благодаря этому начинает светиться своей чистой и пустой формой. Мода есть экстаз красоты: чистая и пустая форма вихрящейся эстетики. Симуляция есть экстаз реальности — для этого достаточно посмотреть в телевизор: все реальные события следуют одно за другим в совершенно экстатичном отношении, то есть в головокружительных и стереотипных, ирреальных и рецидивных формах, которые порождают их бессмысленный и беспрерывный ряд. Экстатичный: таков объект в рекламе и потребитель в созерцании рекламы — это круговращение меновой и потребительной стоимости вплоть до их исчезновения в чистой и пустой форме марки…
Но следует двигаться дальше: антипедагогика — это экстатичная, то есть чистая и пустая форма педагогики. Антитеатр — это экстатичная форма театра: чем больше сцены, тем больше содержания; театр на улице, театр без актеров, театр всех для всех, который в итоге смешался бы с точным ходом нашей безиллюзорной жизни, — где же власть иллюзии, если от перечерчивания нашей повседневной жизни и трансфигурации нашего рабочего места она достигает экстаза? Но это так, и именно поэтому искусство сегодня стремится выйти из себя самого, ищет самоотрицания, и чем более оно реализуется таким образом, тем более оно гиперреализуется, тем более оно трансцендирует в своей пустой сущности. От того же помутнение разума, головокружение, провал и оцепенение. Ничто так не способно оцепенить “творческий” акт и заставить его сиять своей чистой и бессодержательной формой, как неожиданное выставление Дюшаном[47] в картинной галерее сушилки для бутылок. Экстаз грубого объекта соотносит одновременно акт живописи с его экстатичной формой — отныне он вращается вокруг самого себя без объекта и некоторым образом исчезает, подвергая нас очарованию. Сегодня искусство занято лишь магией своего исчезновения.
Вообразите добро, которое засверкало бы всей мощью Зла: это Бог, извращенный бог, созидающий мир “на спор” и требующий от него самоуничтожения…
Также можно вообразить выход за пределы социального, вторжение более социального, чем социум — вторжение массы, — социального, поглотившего всю обратную энергию антисоциального, инерции, сопротивления, безмолвия. Здесь логика социального обнаруживает свою крайность — предельную точку, в которой она переворачивает свои цели и достигает не только инерции и уничтожения, но и экстаза. Массы суть экстаз социального, его экстатичная форма, зеркало, где оно отражается в своей тотальной имманентности.
Реальное не стирается в пользу воображаемого, оно стирается в пользу более реального, чем реальность: гиперреальности. Более истинное, чем истина: такова симуляция.
Наличие не стирается перед пустотой, оно стирается перед удвоением присутствия, стирающего оппозицию присутствия и отсутствия.
Пустота тем более не стирается перед полнотой, но перед пресыщением и тучностью — более полное, чем полнота, — такова реакция тела в ожирении, секса — в непристойности, его ответная реакция на пустоту.
Движение стирается не перед неподвижностью, но перед скоростью и ускорением, — можно сказать, перед более подвижным, чем движение, доводящим движение до крайности, обессмысливающим его.
Сексуальность растворяется не в сублимации, подавлении и морали, а в гораздо более сексуальном, чем секс: в порно. Порно — это современная гиперсексуальность гиперреальности.
В общем, видимые вещи исчезают не во мраке и в безмолвии — они растворяются в более видимом, чем видимость: в непристойности.
Пример такой эксцентричности вещей, такого отклонения в разращении — это вторжение в нашу систему случая, неопределенности, относительности.
Реакцией на это новое состояние вещей было не безропотное забвение старых ценностей, а, скорее, безумное сверхопределение, обострение этих относительных, функциональных, конечных и причинных ценностей. Возможно, что природа действительно наделена ужасом пустоты, ибо именно там, в пустоте, отводя ее, рождаются избыточные, гипертрофированные, пресыщенные системы — излишек всегда располагается там, где нет ничего больше.
Определенность стирается не в пользу неопределенности, а в пользу гиперопределенности — излишества определенности в пустоте.
Неизбежность исчезает не в пользу случайности, а в пользу гипернеизбежности, гиперфункциональности: более функционального, чем функциональность, более финального, чем финал — в пользу гипертелии.
Случаю, погрузившему нас в необычайную нерешительность, мы ответили избытком причинности и неизбежности. Гипертелия — не случайность в эволюции некоторых видов животных, а такой вызов неизбежности, который отвечает возрастающей неопределенности. В системе, где вещи все больше и больше предоставляются случаю, неизбежность поворачивается к исступлению и развивается за счет элементов до тех пор, пока последние не охватят целиком всю систему.
Поведение раковой клетки (гипервитальность в единственном направлении) ведет к гиперспециализации объектов и людей, к операциональности малейшей детали, к гиперсигнификации мельчайшего знака: это лейтмотив нашей повседневной жизни, а также секретная язва всех тучных и раковых систем, систем коммуникации, информации, продукции, деструкции — все уже давно перешло за пределы своей функции, своей потребительной стоимости, чтобы взойти на призрачную эскаладу неизбежности.
Истерия, противоположная истерии неизбежности: истерия причинности, соответствующая одновременному стиранию начал и причин; фанатичный поиск начала, ответственности, референции, попытка исчерпать феномены, доведя их до бесконечно малых причин. Но также сложность генезиса и генетики, к различным наименованиям которых восходит психоаналитический палигенез (вся гипостазная психика раннего детства, все знаки, ставшие симптомами), биогенетика (все насыщенные фатальным расположением молекул вероятности), гипертрофия исторического поиска: все объяснять, все приписывать, все снабжать ссылками вплоть до исступления… Все это происходит от фантастического нагромождения живущих друг за счет друга ссылок. Здесь также разыгрывается нарастающая исполнительная система безо всякого отношения со своей целью. Все это восстанавливает кровотечение объективных причин.