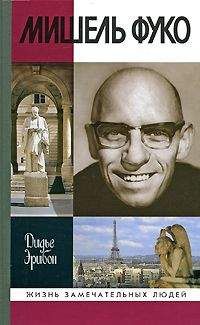Мишель Фуко - История безумия в Классическую эпоху
Да и где, впрочем, ему место, если не внутри самого разума, как одной из его форм и, быть может, скрытых возможностей? Видимо, сходство между формами разума и формами безумия действительно велико. Пугающе велико: как определить, что поступок весьма мудрый совершен дураком, а самая бессмысленная глупость — человеком обычно мудрым и осмотрительным? “Мудрость и безумие, — пишет Шаррон, — весьма близки. Стоит повернуться кругом, и одно превращается в другое. Это видно по поступкам людей умалишенных”94. Но сходство это хоть и ставит в тупик разумных людей, оборачивается на пользу самому разуму. Вовлекая самые неистовые вспышки безумия в свое поступательное движение, разум тем самым достигает величайших высот. Монтень, навещая впавшего в слабоумие Тассо, испытывает скорее горечь, чем сострадание; но, в сущности, сильнее всего в нем чувство восхищения. Конечно, горько видеть, что разум бесконечно близок к глубочайшему безумию именно там, где он мог бы достигнуть своих вершин: “Кто не знает, как тесно безумие соприкасается с высокими порывами свободного духа и с проявлениями необычайной и несравненной добродетели?”[19] Но есть во всем этом парадоксальный повод для восхищения. Ведь это означает, что как раз из безумия разум и черпает самые удивительные свои способности. Если Тассо, “один из самых одаренных, вдохновенных и проникнутых чистейшей античной поэзией людей, тот великий итальянский поэт, подобного которому мир давно не видывал”, пребывает теперь “в столь жалком состоянии, пережившим сам себя”, то не обязан ли он этим “той живости, которая для него стала смертоносной, той зоркости, которая его ослепила, тому напряженному и страстному влечению к истине, которое лишило его разума, той упорной и неутолимой жажде знаний, которая довела его до слабоумия, той редкостной способности к глубоким чувствам, которая опустошила его душу и сразила его ум?”95 Кара безумия настигает усилие разума как раз потому, что безумие было изначально причастно этому усилию: бесспорно присущие безумию живость образов, необузданность страсти, великое затворничество духа суть самые опасные — ибо самые острые — орудия разума. Нет такого могучего разума, которому не приходилось бы безумствовать, чтобы довести свое творение до конца, “нет великого духа без примеси безумия… Именно в этом смысле следует понимать то, что мудрецы и славнейшие из поэтов соглашались иногда впадать в безумство и неистовство”96. Безумие — тяжкий, но сущностно важный момент в неустанных трудах разума; в нем, даже в призрачных его победах, являет себя торжествующий разум, для которого оно было лишь тайной живительной силой97.
Мало-помалу безумие оказывается безоружным и, в своей одномоментности с разумом, лишается привычного места; разум облекает его и словно вбирает в себя, укореняет в себе. В том-то и заключалась двойственная роль, которую сыграла скептическая мысль или, вернее, разум, столь ясно сознающий, какими формами он ограничен и какие силы ему противятся: он открывает безумие как один из своих ликов, а тем самым и ограждает себя от всякой внешней власти и непреодолимой враждебности, от малейшего признака трансцендентности; и в то же время он переносит безумие в самую сердцевину собственной деятельности, обозначая его как важнейший элемент своей
54природы. И мы видим, как уже после Монтеня и Шаррона, но в русле все того же движения мысли, включающего безумие в самую природу разума, вычерчивается кривая паскалевской рефлексии: “Все люди неизбежно безумны, так что не быть безумцем означает только страдать другим видом безумия”98. Эта рефлексия — итог долгого труда, начатого Эразмом; вслед за открытием безумия, имманентно присущего разуму, происходит как бы его раздвоение: возникает, с одной стороны, “безумное безумие”, отрицающее безумие разума, отбрасывающее его — и тем самым удваивающее, а через это удвоение впадающее в безумие наиболее простое, самодостаточное и непосредственное; а с другой стороны — “мудрое безумие”, которое приемлет безумие разума, прислушивается к нему, признает за ним права гражданства и проникается его живительными токами; этим оно надежнее защищается от безумия, чем упрямое, заранее обреченное на неудачу отрицание. Ведь отныне истина безумия неотделима от торжества и окончательного всевластия разума — ибо истина безумия в том, чтобы, пребывая внутри разума, стать одним из его ликов, одной из его сил и как бы некоей мгновенной потребностью, благодаря которой он обретает еще большую уверенность в себе.
* * *
В этом и состоит, быть может, разгадка постоянного и многообразного присутствия безумия в литературе конца XVI — начала XVII в., в искусстве, которое, стремясь овладеть разумом, ищущим самого себя, признает необходимость безумия, своего безумия, обступает его, берет в кольцо и в конечном счете одерживает над ним победу. Таковы игры эпохи барокко.
В литературе, как и в философской мысли, идет та же упорная работа, и завершится она тем же утверждением трагического опыта безумия в лоне критического сознания. Не будем пока останавливаться на этом явлении и, не проводя никаких различий, рассмотрим в общих чертах те лики, те фигуры безумия, которые можно обнаружить как в “Дон Кихоте”, так и в романах Скюдери, как в “Короле Лире”, так и в театре Ротру или Тристана Л'Эрмита.
Начнем с самой значительной и самой устойчивой из них (очертания ее, чуть стершиеся от времени, можно распознать и в XVIII в99): с фигуры безумия через отождествление себя с героем романа. Ее характерные черты раз и навсегда запечатлел Сервантес. Но сама тема всплывает вновь и вновь: и в непосредственных обработках “Дон Кихота” (“Дон Кихот” Герена де Бускаля был сыгран в 1639 г.; двумя годами позже ставится пьеса того же автора “Правление Санчо Пансы”), и в переложениях его отдельных эпизодов (“Безумства Карденьо” Пишу — это вариации на тему “Рыцаря-Оборванца” из Сьерра-Морены), и, более косвенно, в сатире на фантастические романы (как в “Мнимой Клелии” Сюблиньи или, внутри самого повествования, в эпизоде о Жюли д'Арвиан). Химеры переходят от автора к читателю, однако если для одного они были фантазией, то для другого превращаются в фантазм; писательский прием простодушно воспринимается как фигура реальности. Внешне речь идет о вещи весьма несложной — критике романического вымысла; но если копнуть чуть глубже, обнаружится тревожная озабоченность соотношением реального и воображаемого в произведении искусства, а быть может, и той неясной, неуловимой связью, какая существует между фантастическим вымыслом и гипнотической силой бреда. “Изобретением всех искусств мы обязаны людям с расстроенным воображением; каприз у живописцев, поэтов и музыкантов — это всего лишь другое, смягченное воспитанностью, название для обозначения их безумия”100. Безумия, которое подвергает сомнению ценности иной эпохи, иного искусства, иной морали, но в котором, колеблясь, путаясь, странным образом подтачивая друг друга собственной призрачностью, отражаются также и все, даже самые далекие друг от друга, формы человеческого воображения.
Вторая фигура безумия, безумие пустого тщеславия, родственна первой. Но в этом случае безумец отождествляет себя не с литературным образцом, а с самим собой: воображаемое одобрение окружающих позволяет ему приписывать себе любые достоинства, любые добродетели, любые способности, которых он лишен. Он — наследник старой эразмовской Филавтии. Он бедняк, но мнит себя богачом; он урод, но не может оторваться от зеркала; на ногах у него кандалы, но он уже почитает себя Богом. Таков лиценциат из Осуны, воображавший себя Нептуном101. Такова нелепая судьба семи персонажей “Мечтательниц”102, Шатофора в “Осмеянном педанте”, г-на де Ришсурса в “Сэре Политике”. Виды этого безумия неисчислимы; у него столько же лиц, сколько существует в мире характеров, честолюбивых помыслов, неизбежных иллюзий. Даже в крайних своих проявлениях это безумие — самое далекое от крайности; оно гнездится в сердце любого человека, через него человек в воображении соотносится с самим собой. В нем-корень наиболее распространенных человеческих недостатков. Его разоблачение — начало и конец всякой критики нравов.
Безумие заслуженной кары также принадлежит к области морали. Это распад сознания, карающий человека за разлад в душе. Но его могущество может быть и иным: наказание, налагаемое им, само собой умножается по мере того, как через него открывается истина. Это безумие справедливо, ибо вещает правду. Правду — поскольку уже сам виновный ощущает в вихре своих пустых фантазмов неизбывную муку возмездия: Эраст в “Мелите” уже видит, как его преследуют Эвмениды и как Минос выносит ему свой приговор. Безумие правдиво еще и потому, что из тьмы его нежданного возмездия вдруг выходит на свет скрытое от всех преступление; в бессмысленных словах, над которыми человек не властен, безумие являет всем свой смысл, в призрачных видениях выдает свою тайну, свою истину; вопли его — это голос совести. Так Леди Макбет в бреду проговаривается о том, “чего не должна была говорить”, произносит слова, которые долгое время все лишь шептали “глухой подушке”103.