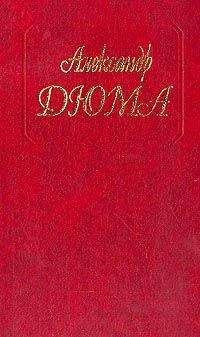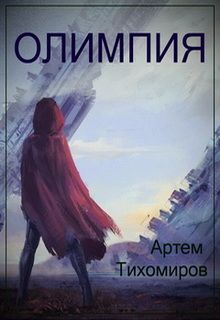Игорь Сухих - Русский канон. Книги XX века
И заканчивается рассказ, как правило, прямым авторским словом, сочувствием и умилением. «Директор слушал, кивал большой гладкой головой – соглашался. Смотрел на Аксенова доверчиво» («Правда»). – «Ленька закурил и пошел в обратную сторону, в общежитие. В груди было пусто и холодно. Было горько. Было очень горько» (Ленька»). – «– Нарисовал бы вот такой вечер? – спросила Нина. – Видишь, красиво как. – Да, – тихо сказал художник. Помолчал и еще раз сказал: – Да. Хорошо было, правда» («Кукушкины слезки»).
Шукшинский рассказ вырастает из этого «просто рассказа», когда автор резко ломает наработанные схемы. Его новая манера возникает на путях художественного минимализма.
Исчезает прямая характеристика персонажа. Проговорок вроде «Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую» («Воскресная тоска») автор «Характеров» уже не допускает.
До минимума сокращаются и втягиваются в психологическую характеристику пейзажные и вообще описательные фрагменты. «На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь – вечер спокойный, с дымками по селу» («В профиль и анфас»). – «Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь – обильный, чтоб резалось небо огненными зазубринами, гремело сверху… И тогда бы – заорать, что ли» («Сураз»).
Само действие перестает быть загадкой, сжимается до краткой схемы-пересказа и выносится в начало, в экспозицию, как в старой новелле. «Дня за три до Нового года, глухой морозной ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два выстрела. Раз за разом… Из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул: – Даешь сердце! Эхо выстрелов гуляло над селом. Залаяли собаки. Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин» («Даешь сердце!»). – «Сашку Ермолаева обидели» («Обида»). – «Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей» («Мой зять украл машину дров»).
Концовка тоже становится краткой, суммарной, лишенной лирической меланхолии и ритмической напевности, создавая впечатление резкого обрыва, недоговоренности, необязательности. «Свояк опять засмеялся. И пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера» («Свояк Сергей Сергеевич»). – «Андрей посидел еще, покивал грустно головой. И пошел в горницу спать» («Микроскоп»). – «И он тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились» («Генерал Малафейкин»).
Формально поздние шукшинские рассказы больше напоминают киносценарии, чем тексты, специально предназначенные для кино. В них становится «видно» даже меньше, чем в киносценариях. «Меня больше интересует “история души”, и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует, – объяснял автор. – Иногда применительно к моим работам читаю: “бытописатель”. Да что вы! У меня в рассказе порой непонятно: зимой это происходит или летом».
Переделывая тексты для кино, Шукшин, бывало, подпускал в них лирику или патетику.
Рассказ «Степка» заканчивается образом идущей по середине улицы плачущей, мычащей немой сестры. В сценарии «Ваш сын и брат» дальше добавлено нечто оптимистически-заурядное и наглядное: «Летит степью паровоз. Ревет. Деревеньки мелькают, озера, перелески… Велика Русь».
В рассказе «Думы», включенном в сценарий «Странные люди», горькие мысли героя о смерти утепляются придуманной сценкой: Матвей Рязанцев идет за собственным гробом, навстречу процессии несется табун лошадей, гроб роняют, герой поднимается из него и ругается: «Тьфу, окаянные!.. Я вам кто – председатель или затычка! Бросили, черти…» Эмоциональный смысл сцены в сценарии меняется на противоположный.
«История души» в рассказах дается самыми лаконичными средствами. Главной «выдумкой» Шукшина становится точно выбранная ситуация ее самообнаружения. Главным изобразительным средством, орудием, инструментом – прямая речь персонажа, колоритный диалог или монолог (реже – внутренняя речь или прикладные письменные жанры: письмо, заявление, кляуза, «раскас»).
Ситуация – клетка, в которую пойман герой. Речь, слово (и лишь во вторую очередь – поступок) – его характер.
В одном из шукшинских рассказов ездивший на юг лечить радикулит шепелявый герой попадает в чеховский музей в Ялте и больше всего удивляется сохранившейся там вещи. «Додуматься – в таком пальтисечке в Сибирь! Я ее (экскурсовода. – И. С.) спрасываю: «“А от чего у него чахотка была? – Да, мол, от трудной жизни, от невзгод, – начала вилять. От трудной жизни…” Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь…» («Петька Краснов»).
Настоящий Шукшин выходит не из гоголевской шинели, а из чеховского пальто.
Он словно реализует чеховский совет молодому Бунину: «По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем… И короче, как можно короче надо писать». Только ему оказывается ближе не лирическая размягченность, элегичность «Дамы с собачкой», не гротескная сгущенность «Крыжовника» или «Человека в футляре», а живописная характерология Антоши Чехонте середины восьмидесятых годов, его неистощимая изобретательность в поиске новых тем, его хищный интерес к тому, что всегда под рукой или перед глазами. «Он оглянул стол и взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, – это оказалась пепельница, – поставил ее передо мной и сказал: – Хотите – завтра будет рассказ… Заглавие “Пепельница”» (или «Коленчатые валы», или «Змеиный яд», или «Капроновая елочка», или «Микроскоп», или «Сапожки»).
«Внезапные рассказы» Шукшина – близкие родственники сценки, фирменного жанра раннего Чехова и привычной формы его безвестных ныне современников. Сценка, эксцентрический рассказ, разговорная новелла (что, в сущности, одно и то же) – жанровый стержень, жанровая доминанта шукшинского мира. Однако чеховской разбросанности (или по-иному широте) он предпочитает тематическую сосредоточенность, чеховскому движению к повествовательному рассказу и идеологической повести – верность жанру при интенсификации его приемов и свойств.
Шукшин – наследник Чехонте, не захотевший или не успевший стать Чеховым.
Первый шукшинский сборник назывался «Сельские жители» (1963). Потом, когда понятие «деревенская проза» утвердилось и приобрело отрицательные коннотации, он иногда протестовал: не о деревне я пишу – о душе человеческой. Но все-таки его почвой и темой и дальше было то же: земля, село, сельские жители. Хотя деревня Шукшина вовсе не этнографична и не очеркова. Она – образ мира, который при внешней бытовой характерности причудлив и эксцентричен.
Прежде всего – это откровенно мужской мир. «Мужчины без женщин» – назывался один из сборников Хемингуэя. У Шукшина женщина присутствует почти в каждом рассказе, но как сила косная, давящая, в лучшем случае – бессмысленно-забавная, в худшем – просто страшная: сварливая жена, остервенелая теща, наглая продавщица, городская вертихвостка. «С бабой лучше не говорить про всякие догадки души – не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси не стыдись самые дурацкие слова – верит; старой – скажи попробуй про самую нечаянную думу, – сам моментально дураком станешь» («Земляки»). – «Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то – не Мыслителя делал» («Микроскоп»). – «Дед Иван говорит: счас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо» («Беспалый»).
Особенно подробно и артистично философия мужского и женского развернута в «Страданиях молодого Ваганова». К начинающему следователю, только что получившему зазывное письмо от бывшей однокурсницы, «изящной куколки», уже разведенной и готовой на новую партию, является пожилой мужик, жена которого «гуляет», а теперь задумала его «посадить» года на три, – и мигом открывает ему глаза на жизнь.
«– Я так скажу, товарищ Ваганов, – понял, наконец, Попов. – С той стороны, с женской, оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же… Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы… Баба, она и есть баба. – На кой же черт мы тогда женимся? – спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией. – Это другой вопрос. – Попов говорил свободно. Убежденно – правда, наверно, думал об этом. – Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты – пустой ноль. Чего ж тогда мы детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила – терпеть все женские выходки… – Но есть же… нормальные семьи! – Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря… бушуют. – Ну, елки зеленые! – все больше изумлялся Ваганов. – Это уж совсем… мрак какой-то. Как же жить-то? – Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она – друг, вы что? Спасибо хоть детей рожают… И обижаться на их за это не надо – раз они так сделаны. Чего обижаться?»